Одна
моя знакомая, верующий, воцерковленный человек,
именем Наталья, пожаловалась мне недавно на то, что
не остается у нее ни сил, ни времени на духовную
жизнь.
Что она подразумевала, говоря: духовная жизнь? Скорее
всего – тот образ, то содержание жизни, тот
распорядок дня, наконец, которые поддерживали бы ее в
определенном духовном и душевном состоянии или тонусе;
позволяли бы ей всё время чувствовать себя верующей,
живущей с Богом и расти как-то в этом измерении.
Что для этого необходимо? Конечно, регулярная и
внимательная молитва. Чтение Библии и
святоотеческой литературы. Посещение храма, участие в
богослужении и Таинствах. Размышления о себе, о своем
духовном состоянии, о взаимоотношениях с Богом. Беседы с
духовником.
– И где мне взять на всё это время? И силы?..
Наталья – учительница и классный руководитель. У нее
семья: супруг с непростым характером, двое детей,
нервозная свекровь и больная мама. Еще есть дача, на
которой, по убеждению ранимой свекрови, непременно должно
что-то произрастать и вызревать. А квартира, меж тем,
требует ремонта, а старшей девочке в этом году поступать,
а супруг в силу своего характера ни во что не вникает
совершенно.
– Я рада, если мне удается сходить в храм в
воскресенье и прочитать хоть частично вечернее правило.
Утреннее читать не получается совсем: вскочила, понеслась,
через некоторое время проснулась. И какие тут книги, какие
размышления!..
Действительно,
складывается впечатление, что это одна из главных
характеристик нашего времени – сверхзанятость,
перегруженность, замотанность, переутомление. Вокруг
нас сколько угодно людей, которым, кажется, некогда
не то что святых отцов читать – им некогда
просто подумать наконец не о делах своих, а о себе.
Посмотрите на какого-нибудь завуча, главврача или
бизнесмена. Ему дожить бы до отпуска – чтобы к
середине этого отпуска в себя немножко прийти.
Посмотрите на многодетную маму. У нее даже и отпуска
не будет. И какой уж тут, казалось бы, духовный
поиск, духовный рост и прочие такие вещи.
Жертвами хронической перегрузки, постоянной занятости и
усталости становятся и священники тоже. Рабочий день
настоятеля обычного приходского храма начинается в пять
утра (если в семь ранняя Литургия, а до церкви еще надо
добраться) и заканчивается в одиннадцать вечера. А если
священник при этом еще строит или капитально ремонтирует
храм… Тогда совсем тяжко. «Максимум, на что
меня хватает после возвращения домой, – попросить у
Бога прощения за то, что не буду сейчас молиться. До конца
это прошение я договариваю уже во сне», – с
горечью признался мне недавно один священник –
совсем неплохой, на мой взгляд, искренний в вере и
сердечный. Аналогичную фразу я услышала от молодой
сотрудницы одного провинциального епархиального
управления: «Вечером, а вернее – ночью, когда
я, доделав наконец всю сваленную на меня работу, выключаю
компьютер, я способна произнести только “Господи,
помилуй!” и слабо понадеяться, что помилует на самом
деле».
Как мирянина, так и священника (в случае со священником
это особенно горько) хроническая усталость может отлучить
от людей, от ближних. Измотанному человеку уже не до них:
он утрачивает душевный контакт, желание общаться с
окружающими, помогать им, радовать их; становится
раздражительным, жестким, нервозным, хотя…
…Видите, я уже споткнулась. В усталости ли причина,
если это происходит? Может быть, переутомление –
только способ это оправдать?
Дойдем и до этого, а сейчас вернемся к Наталье. Заметьте:
она все-таки страдает от духовной неполноценности
собственной жизни, не может с этим смириться, хочет расти,
хочет, чтобы обретенная ею вера была живой и умной, чтобы
жизнь ей соответствовала. И не просто ведь хочет, а
осознает необходимость…
Исходя из этого, я решила, что ей – и, понятно, не
только ей – нужны советчики. И обратилась к
нескольким хорошо известным мне людям, ни одного из
которых не заподозришь в прохладной жизни по бархатному
графику.
***
Протоиерей
Виталий Колпаченко, благочинный
Хвалынского округа Саратовской епархии, настоятель
храма в честь Воздвижения Честнаго Креста Господня в
Хвалынске, директор Православной гимназии во имя
святого мученика графа Александра Медема, отец
четверых детей:
Если внешний труд бессознательно ставится на первое
место в жизни – это следствие маловерия
– Ситуация, когда человек, а тем более священник, не
находит в себе сил помолиться, – совершенно
ненормальна, более того – страшна. Если это
происходит, то должно возникать хотя бы самоукорение
– чтобы человек мучился из-за этого, упрекал себя.
Но не просто упрекал, а постарался это исправить. Человек
должен понять, почему он не видит главного в своей жизни,
почему на самое важное не находит времени; почему забыл
евангельские слова: «Ищите прежде Царства Божия и
правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6: 33).
Когда внешний труд бессознательно ставится на первое место
в жизни, а то, что должно быть духовной основой, на
последнее – это следствие не занятости, а маловерия.
Человек бросается делать свои необходимые, как он считает,
дела, не считая при этом обязательной молитву, –
потому что не видит и не чувствует присутствия Божия в
своей жизни, не ждет от Господа помощи.
Что касается усталости и сопутствующих ей нервозности,
раздражительности – они-то как раз и говорят, что
дела твои, которыми ты так загружен, не приносят духовного
плода. Как бы положительно ни оценивали твою деятельность
люди – в очах Божиих она не будет иметь никакой
цены, потому что сделано всё – в отрыве от Него.
«Как ветвь не может приносить плода сама собою, если
не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне»
(Ин. 15: 4).
Усталость от жизни – показатель того, что ты не
для Бога живешь
Усталость
усталости рознь. Есть усталость сладкая – когда
человек сделал для Господа всё, что мог сегодня, и на душе
у него мир. А есть усталость иная – по сути,
усталость от ненормальной жизни, от жизни вдали от Бога.
Если она возникает, это тревожный звонок, это показатель:
ты не для Бога живешь. Она-то и порождает
раздражительность… и ропот. Ропот начинается с обид
на окружающих людей: человеку кажется, что его оставили
одного, бросили наедине с его трудностями, что никому нет
до него никакого дела. Это состояние – состояние
острой обиды, воспаленных претензий к ближним –
может оказаться страшным, разрушительным для личности.
В нашей жизни всё происходит по воле Божией –
человек верующий должен это понимать. И нагрузка, которую
тебе приходится нести, именно тебе предназначена и,
значит, необходима. Это твой крест! А не по силам Бог
креста не дает. Так же, как ни один разумный родитель,
если его маленький ребенок хочет помочь взрослым полить
огород, не даст ему большое ведро с водой, большую
«взрослую» лейку, а даст маленькое ведерко и
лейку детскую. Маленькое ведерко с водой тоже может
показаться ребенку тяжелым, но это будет приятная тяжесть
– малыш узнает, что значит потрудиться.
Утренняя молитва – это манна: Господь знает, что
предстоит человеку в наступающий день, и дает ему силы
на это
Святые отцы учат нас любое дело воспринимать как
полученное от Бога – и именно для Бога его
выполнять. А молиться мы не успеваем чаще всего не от
перегрузки – от лени. Лень мешает нам, например,
вовремя встать с постели. Есть очень хорошая пословица:
кто рано встает, тому Бог подает. Если человек не находит
в себе на это сил, получается замкнутый круг: поздно
встал, поэтому не успел помолиться. Куда-то побежал, а там
тоже ничего не получается, всё из рук вон; потому что если
человек не помолился утром, то у него непременно всё
пойдет кувырком. Целый день бестолковой, бесплодной суеты
человека выматывает, вечером он не находит в себе сил
помолиться, а утром опять не может вовремя встать…
Меж тем даже манну с неба в пустыне Господь подавал именно
утром. Утренняя молитва – это и есть та самая манна:
Господь знает, что предстоит человеку в наступающий день,
и дает ему силы на это. Молясь утром, мы как бы
протягиваем руки за Божией помощью.
***
Семья Коньковых
Елена
Конькова, профессиональный музыкант,
жена священника и мать четверых дочерей, младшей из
которых два года; обитательница одиннадцатой с момента
создания семьи съемной квартиры:
– На самом деле это не проблема. Вожусь ли я с
детьми, стираю ли, варю кашу, еду ли я на работу –
что мешает мне общаться с Богом? Как может не хватать
времени на диалог с Ним… если вся наша жизнь, по
сути, есть с Ним диалог? Общение с людьми – это ведь
следствие общения с Богом. Если я вдруг вспыхиваю
раздражением, нетерпением, злостью, если накатывает
уныние, жалость к себе – значит, я потеряла Его из
виду, удалилась от него. И моя задача – вовремя это
почувствовать и постараться вернуться.
А сколько может дать человеку Псалтирь – если
человек привык не расставаться с нею!
С чтением, конечно, беда. На толстые книги, на изучение
святоотеческих трудов времени действительно нет. Но ведь
иногда нам достаточно одного изречения святого отца, одной
или нескольких фраз из его труда, чтобы задуматься
надолго, чтобы в чем-то важном попытаться себя изменить.
Сейчас очень много православных интернет-ресурсов, и на
каждом можно найти то, что станет для тебя руководством к
действию. А сколько может дать человеку Псалтирь –
если человек привык не расставаться с нею, читать ее в
дороге, где-то еще – было бы несколько свободных
минут! А еще можно использовать DVD – плейер и
наушники – слушать молитвенное правило, беседы
священников. Когда я лежала в больнице, я именно так и
делала – не расставалась с наушниками. Что касается
утренней молитвы – ничто не мешает встать раньше,
чем проснулись дети. Если действительно хочешь, если тебе
действительно нужно – ты на все найдешь время, тем
более на жизнь с Богом.
***
Марина Шмелева
Марина
Шмелева, руководитель
информационно-издательского отдела недавно образованной
Покровской епархии: «Жатвы много, а делателей
мало» (Лк. 10: 2) – это к молодой епархии
относится в полной мере, как вы догадываетесь, а Марина в
ней – один из первых (хронологически)
делателей:
– Я не сказала бы, что работа отнимает у меня все
силы и всё время. Нахожу же я время для того, чтобы,
например, пообщаться с друзьями. Мне кажется, наша
проблема – не в нехватке времени, а в неумении им
распорядиться. Не в том, что у нас много работы, а в том,
что мы не можем выстроить иерархию своих
«надо». Для этого необходимо, может быть,
трезвение. Хотя это и очень трудная для нас добродетель, и
во всей полноте она нам недоступна, но помнить о ней мы
должны. Хотя бы для того, чтобы понять: вот эта цель не
стоит таких средств. И вспомнить слова Псалмопевца:
«Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася
зиждущии» (Пс. 126: 1). Вспомнить, что на самом-то
деле мы ничего такого не свершим без Его воли и Его
помощи.
Наша проблема – не в том, что у нас много работы,
а в том, что мы не можем выстроить иерархию своих
«надо»
Когда епископ Пахомий (тогда еще просто отец Пахомий) стал
настоятелем Свято-Троицкого собора в Саратове, у нас
увеличились службы. Он не хотел поспешности в молитве!
Честно сказать, первое время это даже вызывало некоторое
недовольство. А надо было задуматься: на что мы тратили
эти 20–30 минут раньше? На дела милосердия? Нет,
скорее на пустые разговоры. Если мы последим за собою в
течение дня, то поймем, что на самом деле не такие уж мы и
перегруженные. И эти 20–30 минут, может быть, час на
молитву, чтение Евангелия, на возвращение к прожитому дню,
к своим грехам – у нас на самом деле всегда есть.
Важно не колебаться, не раздумывать: ну что, почитать
мне Евангелие сейчас или уж не надо? помолиться или нет?
Здесь еще важно вот что: не колебаться. Не тратить время
на раздумья: ну что, почитать мне Евангелие сейчас или уж
не надо? помолиться или нет? Не решать это каждый раз
заново, а решить один раз и навсегда: читать каждый день,
молиться утром и вечером. Другой вопрос:
«качество» молитвы и чтения. Здесь, конечно,
бывают и спады, и подъемы. Но ведь правило потому так и
называется, что задается один раз и навсегда и от подъемов
и спадов наших не должно зависеть. То же и с посещением
храма. Нам, сотрудникам епархиального управления, легче:
мы работаем практически на территории храма. Но и мы можем
так засуетиться, что и в храм ни разу не зайти. А хорошо
бы чтобы и это стало правилом: заходить непременно каждое
утро хотя бы на несколько минут. Недаром ведь святые отцы
говорили, что и добродетель, и порок – дело
привычки.
Что касается размышлений о себе, о своем духовном
состоянии – мне кажется, этой рефлексии не должно
быть слишком много. Человек лучше всего видит и чувствует
свое состояние, когда молится. И когда участвует в
богослужении. Те высокие смыслы, которыми оно проникнуто,
освежают человека, освобождают его, очищают от того
«песка», который накапливается в душе в
течение дня. В храме ты ничем внешним не занят: не пишешь
срочно текст для сайта, не организуешь мероприятие, не
моешь посуду, не бежишь никуда – вот здесь-то и
появляется замечательная возможность себя собрать.
При этом отдыхать необходимо. Забыть об отдыхе,
перегрузить себя сверх всяких человеческих мер –
это, по сути, саморазрушение. Но отдых тоже бывает разный.
Бывает так, что человек весь день пролежал на
диване… И нисколько на самом деле не отдохнул. А
бывает, что Сам Господь дает полноту отдыха. Внешне вроде
бы ничего особенного не происходит – просто вышла
куда-то на природу или пообщалась с друзьями. Но при этом
чувствуешь, что на самом деле отдохнула душа.
***
Священник Дионисий Каменщиков
Священник
Дионисий Каменщиков, настоятель
храма во имя святого великомученика и целителя
Пантелеимона при 1-й городской больнице в Саратове,
руководитель миссионерского отдела Саратовской епархии,
отец семейства:
Мы забываем о Божием Промысле в нашей жизни. Если бы
Богу было угодно, чтобы мы жили не столь напряженно, Он
остановил бы нас
– Проблема, действительно, есть, но стоит ли она так
уж остро? Мне кажется, мы сами делаем из этого великую
проблему. Ведь когда мы рассуждаем о своей
перегруженности, мы забываем о Боге, о Его Промысле в
нашей жизни. Если бы Ему было угодно, чтобы мы жили
по-другому, не столь напряженно, Он остановил бы нас,
послал бы нам, возможно, болезнь, и мы лежали бы себе
– и недельку, и больше, год, может быть, и у нас
было бы время для того, чтоб задуматься и жизнь свою
осмыслить. А раз Господь этого с нами не делает –
значит, мы должны ту жизнь, которая у нас сегодня есть,
правильно выстроить, чтобы было у нас время и на молитву,
и на чтение Священного Писания, и на святоотеческую
литературу. С одной стороны, сделать это бывает порой
достаточно сложно. А с другой – всмотримся в жизнь
святых, например святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Он был чрезвычайно загружен, занят массой всевозможных
дел, всегда окружен людьми, ни один из которых не уходил
от него неутешенным, и что же, разве это лишило его
возможности молиться? Повредило его духовной жизни?
Разлучило его с Богом, наконец? Совершенно напротив. Он
правильно построил свою священническую жизнь. Во главе
угла, в центре – Божественная Литургия, а всё
остальное – от нее.
Так ведь жили и апостолы, и Сам Спаситель. В Евангелии от
Матфея (12: 1) и от Луки (6: 1) мы читаем о том, как
ученики Христа, проходя через поле, начали срывать колосья
и поедать их. Лука уточняет: ученики растирали зерна
руками. О чем это говорит? О том, что они были голодны, у
них не было времени на то, чтобы приготовить себе
нормальную пищу и нормально поесть: в таких трудах они
пребывали. Конечно, наше время – оно по сравнению с
древними временами ускорено, наполнено: масса информации,
масса дел, и нам представляется, что перегрузки –
это характерная черта нашего времени. А на самом деле
люди, которые ревновали о своем служении, жили так всегда.
И ничего сверхъестественного в этом нет.
Время – субстанция коварная, лукавая, неоднородная,
оно может растягиваться и сжиматься, в нем могут
находиться пустоты, возможности, которые мы не используем.
И если человек от всего сердца попросит Бога дать ему
необходимый час, два часа, день – Господь это время
для человека найдет.
А потом, нам, священникам, вообще не страшно. Нам это не
грозит: не найти времени на жизнь с Богом. Потому что
любой из нас, каковы бы ни были его личные слабости или
недостатки, служит Божественную Литургию – минимум
раз в неделю. Литургия – такое богослужение, которое
даже при нерадивости пастыря невозможно сократить. Это
прочный фундамент, на котором стоит Церковь. Пока Литургия
совершается, а она будет совершаться до скончания века,
она всегда будет духовной отдушиной для пастыря –
как бы он ни был загружен, чем бы ни занимался, сколько бы
разных послушаний ни нес. Его задачи, его послушания могут
оказаться скучными, сухими, нетворческими, они
действительно будут выматывать, но Литургия даст ему
возможность дышать тем воздухом, которым нужно, и более
того: построить всю остальную жизнь на фундаменте
Евхаристии. Как это сделал святой праведный Иоанн
Кронштадтский.
Когда в центре жизни Литургия – и всё остальное в
ней меняется тоже. Физически бывает тяжело, да, но на
душе невероятно легко и просторно.
Когда в центре жизни Бескровная
Жертва – и всё остальное в ней меняется тоже.
Физически бывает тяжело, да, но на душе невероятно легко и
просторно. А когда всякие дела вытесняют Божественную
Литургию на периферию души, когда пастырь уже не видит
ничего особенного в том, чтобы это богослужение
пропустить, – тогда и с делами беда, ничего не
получается. И всё, что пытаешься предпринять в
«освободившееся время», рано или поздно
оборачивается крахом.
Надо знать, что в твоей ситуации нет ничего нового и
героического. Это обычная ситуация. И для священника, и
для мирянина. Как говорил апостол Павел, дни лукавы; если
мы хотим что-то уместить в эти дни, мы должны жить очень
внимательно и напряженно. Иначе окажешься у порога
вечности с очень бедным багажом. И это страшно.
Священническое служение и жизнь христианина в наше время
невероятно интересны! А мы жалуемся, что у нас дел
много…
В разные времена христиане спасались по-разному. Были
периоды гонений. Сегодня гонений нет – такова воля
Божия о нас, сегодняшних: Он дал нам возможность жить
свободно и спокойно. Но мы вместо этого хотим жить так,
как мы хотим. Мы забываем о Боге. Мы придумываем себе
некие идеальные условия жизни и служения и возмущаемся,
что этих условий нам не предоставили. А волю Божию о нас
выносим как бы за рамки своих рассуждений. 30–40 лет
назад у священника не было такой загрузки, ему не надо
было бежать в школу, ехать в воинскую часть (кто бы его
туда пустил?..), организовывать катехизаторские курсы,
православный летний лагерь для школьников, писать статьи
для церковных и светских газет… И что же – мы
завидуем ему, нам хочется туда, назад, в ту ситуацию?
Господь дал нам сегодня огромную, практически
неограниченную возможность миссии. Священническое служение
и жизнь христианина в наше время невероятно интересны! А
мы жалуемся, что у нас дел много… Мы готовы
оттолкнуть Бога, Который дал нам всё то, что у нас сегодня
есть.
Наша проблема – не в плотном графике на самом деле,
а в подходе ко всей нашей жизни. А чтобы правильно всё
устроить, нужно молиться Богу.
***
Священник Алексий Каширин
Священник
Алексий Каширин, настоятель храма во
имя святого мученика и целителя Пантелеимона в поселке
Степное, отец троих детей:
– Человеку, который говорит, что ему некогда жить
духовной жизнью, я бы напомнил: так как у нас есть душа и
дух, то мы априори живем духовной жизнью. Осталось только
спросить у духовника – какой.
Как мы классифицируем стоящие перед нами задачи? Как
выстраиваем их ценностную иерархию? Именно здесь вступают
в силу причинно-следственные связи духовного мира самого
человека. Что в его внутреннем мире ценнее? И почему?..
Может быть, для меня самое ценное – хорошо выглядеть
перед архиереем; или – чтобы все вокруг думали,
какой я замечательный? Это и говорит о том, что моя
духовная жизнь оставляет желать много лучшего. Я тружусь,
да, но не для Бога, не для людей, а для себя.
Второй вопрос: честен ли я с самим собой? Если я говорю
себе, что не умею, дескать, молиться, зато буду трудиться,
если я не к месту использую известную мудрость
«Послушание превыше поста и молитвы», то есть
просто оправдываю этим изречением то, что не молюсь,
– значит, я обманываю себя. И это тоже говорит о
глубокой ненормальности духовной жизни.
Поэтому надо научиться честно отвечать себе на вопрос, что
и зачем я делаю: определить для себя главное, то, ради
чего живешь, и учиться управлять своей жизнью в русле
этого своего кредо. Тогда жизнь при любой загрузке будет
здоровой, подлинной духовной жизнью.
Это удобный миф – что мы живем во времена страшных
нагрузок. Наши кресты не тяжелее тех крестов, которые
несли христиане иных эпох.
Ведь это удобный миф – что мы живем во времена
каких-то страшных нагрузок на человека. Наши кресты не
тяжелее тех крестов, которые несли христиане иных эпох
– эпох, давших множество святых. Кому из святых было
легче жить духовной жизнью, чем нам? Кому из них
предоставлялись для этого какие-то комфортные условия?
Нагрузка не препятствует духовной жизни, она проверяет ее
качество.
***
Художник: Дмитрий Белюкин
Выслушав своих собеседников, попробую поделиться и
собственным опытом, своими, скажем так, соображениями.
Во-первых, я не думаю, что чья-либо ситуация может быть в
этом плане безысходной. Здесь присутствует некий
психологический момент: во многих случаях мы сами создаем
себе свое несчастье. Многие из нас просто подавлены и
хронически испуганы валящимися на них проблемами и
ответственностью за их разрешение. Страх не справиться, не
успеть, провалить, вызвать чье-то недовольство порождает
хроническое перенапряжение и – главное –
неспособность отключиться, переключиться и осознать
наконец истину: как бы ни было всё это важно, главное на
самом деле не это. «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится
вам» (Мф. 6: 33). Всем нам эти слова известны,
но почему мы не можем (да полно – пытаемся ли?..) по
ним жить? Впрочем, об этом сказал уже выше отец Виталий:
нехватка доверия к Богу, маловерие, малодушие.
Что касается домашних дел – здесь, мне кажется,
нужно обратиться к святителю Феофану, Затворнику
Вышенскому. В своих письмах, собранных в книгу «Что
есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» он
как раз очень много внимания уделяет этому: возможностям
жизни духовной в условиях постоянной житейской, бытовой
занятости. И его советы, его уроки не стареют:
Святитель Феофан Затворник: «Если есть что
мешающее духовной жизни, то совсем не дела и занятия, а
пустая многозаботливость, точащая сердце…»
«Пишете, что у вас много хлопот по дому.
Делайте с усердием всё, что вам велят. Это ваш долг. Но
хлопотать – не хлопочите. Хлопоты (забота)
сопровождаются всполошением всего внутреннего, а это вещь
недолжная. Разве нельзя всё порученное обсудить спокойно,
а потом делать его, нисколько не полошась, с мыслию
собранною. В житейском быту если есть что мешающее
духовной жизни, то это совсем не дела и занятия, а это
пустая многозаботливость, точащая сердце… Навыкайте
все дела делать трезвенно, не отклоняясь мыслию от
Господа, а, напротив, держа то убеждение, что Ему всем
этим угождаете» (Что есть духовная
жизнь и как на нее настроиться?).
И святого Затворника, и иных учителей Церкви нам, конечно,
необходимо читать. Не обязательно да и просто не нужно
сразу много! Понемножку, в трамвае, в маршрутке, за пять
минут до службы в церкви… Сейчас издается немало
фрагментарных изданий-цитатников, они, что и говорить,
вещь недостаточная, однако – лучше, чем ничего.
Когда хотя бы вот так, фрагментами читаешь отца Иоанна
Кронштадтского, эти фрагменты, эти его мысли принимаются
летать вокруг тебя подобно пчелам, гудящим вокруг
цветущего куста; и в каждой твоей ситуации вовремя
«подлетает» именно тот, который нужен.
Сил и времени на изучение труднейшей средневековой
аскетической – святоотеческой – литературы
хватает, и правда, мало у кого из нас. Но не нужно
забывать, что наш домашний молитвослов – это тоже
святоотеческая литература. Молитвы, составляющие утреннее
и вечернее правила, а также Последование ко
святому Причащению оставлены нам такими столпами
Церкви, как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Петр
Дамаскин, Иоанн Дамаскин, Макарий Великий, Петр
Студийский, Симеон Метафраст, Симеон Новый
Богослов… Вот какое созвездие. Наш молитвослов
– великолепный учебник христианской жизни. Надо
только читать его как можно внимательнее. И тогда столько
будет духовных открытий, столько бесценных уроков!
Главное – не воспринимать духовную жизнь как нечто
отдельное от «обыкновенной жизни» или
«жизни вообще»
Святейший Патриарх Кирилл в одном из своих недавних
интервью, отвечая как раз на обсуждаемый здесь нами вопрос
«Как современному, занятому человеку найти время для
духовной жизни?», сказал: «Духовная жизнь
– это не хобби, не развлечение, на которое у нас
может хватать или не хватать времени. Это основание, на
котором мы строим всё остальное». Вот это главное,
пожалуй, – не воспринимать духовную жизнь как нечто
отдельное от «обыкновенной жизни» или
«жизни вообще». Не пытаться делить время: вот
сейчас отдам немножко времени духовной жизни, а потом
займусь повседневными делами. Вся наша жизнь со всеми ее
делами, заботами и проблемами должна и может стать жизнью
духовной, и иного пути, скорее всего, у нас нет. Если у
человека это хотя бы в какой-то мере получается, может ли
он сказать, что у него не хватает времени на…
собственно жизнь?
Когда мы говорим, что у нас не хватает времени на
что-либо, мы всегда подразумеваем время, свободное от
чего-то другого. А в данном случае нам нужно, оказывается,
освободить время своей жизни – не от работы! От
мертвящей суеты и духовного окаменения.
Одна моя знакомая, психолог, сказала мне как-то раз, что
если ее коллеги придумывают всё новые и новые тренинги, то
для православного христианина вся жизнь –
непрерывный тренинг, каждая новая ситуация –
упражнение. Для меня, например, не таким уж простым
упражнением оказалось на днях отключение в нашем доме
горячей воды. Как избежать раздражения, злости, уныния,
того внутреннего потемнения, которое – сразу ведь
чувствуешь – мешает обращению души к Богу,
несовместимо с молитвой?
Я не знала, как мне это сделать, но точно знала, что надо.
И что-то получилось, хотя и не на пятерку, увы.
[1] Цит. по: Феофан, Затворник Вышенский, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Минск, 2005.

Жизнь — это когда ты чувствуешь себя живущим, то есть делающим то, зачем жизнь дана, и от этого, даже в стесненных обстоятельствах, — радостным.
Конечно, жизнь дана нам и для того, чтобы мы любили ближних, растили детей, делали добрые, непреходящие дела, добавляли миру света и, насколько сможем, противостояли тьме. Но как часто все эти наши, если можно так выразиться, задачи рассыпаются на тысячи и тысячи мелких, однако весьма утомительных дел, переделать которые мы не успеваем; барахтаясь в которых мы теряем живое чувство жизни. К тому же в нашу повседневность вторгается масса дел ненужных, мертвенных, чисто внешних, надуманных людьми. Например, бесконечные отчеты, никому на самом деле ничего не дающие мероприятия, бюрократические процедуры, в которых мы вынуждены участвовать…
А как часто мы сталкиваемся с нереальными требованиями; с плохой организацией труда, которая съедает львиную долю нашего времени на работе… Как часто оказываемся в житейских ситуациях, которые неразрешимы никакими иными способами, кроме наших личных сверхусилий…
Хуже всего, что многих людей это ломает, и они в какой-то момент просто бросают разом всё… чтобы предаться ложному отдыху, пустому времяпрепровождению, искусственному саморасслаблению. В лучшем случае — бесконечным разговорам ни о чем, от которых потом и не остается, соответственно, ничего, кроме чувства опустошенности.
При этом мы не находим уже времени на то, чтобы поговорить по-настоящему, серьезно — с собственным ребенком, с пожилой и больной мамой, со старым другом, которому так нужно наше понимание. Нам некогда прочитать книгу, побродить часок-другой в одиночестве по весеннему лесу… Да что лес — нам некогда просто задуматься. О себе, о том, что мы собой представляем, как живем и как нам дальше жить. Мы теряем чувство жизни как уникальной и богатейшей возможности, реализация которой начинается здесь, на земле, а завершение свое получает там, где нет уже времени, которого нам сегодня так не хватает.
Но мы — верующие люди, мы знаем, что жизнь дана нам не просто для того, чтобы делать добрые дела или заботиться о ближних. Мы живем для того, чтобы, преодолев последствия грехопадения, максимально приблизиться к Богу, чтобы жить с Ним и в Нем. А здесь нас ожидает, или, вернее будет сказать, лукавый нам подсовывает ту же проблему: нет времени! Некогда молиться, ходить в храм, вникать в богослужение, всматриваться в себя, готовиться к исповеди… И даже не просто некогда, а сил на это вроде как не остается.
Но разве есть в жизни христианина что-то важнее, насущнее, чем общение с Богом, чем труд очищения своего сердца, чем участие в церковных Таинствах? Разве двадцать минут молитвенного правила утром и вечером так уж обременительны? Разве чтение Евангелия и духовной литературы не должно стать для человека верующего тем фундаментом, на котором он строит свою жизнь? Все это так… И все же житейская суета, проблемы на работе и дома, хозяйственные хлопоты, необходимость заботиться о близких, решать массу проблем, наконец, просто усталость от всего этого делают наше желание обратиться к Богу трудноосуществимым. Или, по крайней мере, создают в нас впечатление, что расти духовно нам некогда, да и сил не хватает.
Нашим собеседникам мы задали вопрос: удается ли вам организовать свое время таким образом, чтобы его хватало на духовную, церковную жизнь?
* * *

— Конечно, современный, можно сказать, бешеный темп жизни влияет на нас, и очень сильно. Враг уводит нас от спасения всеми доступными способами, и нехватка времени — одна из его уловок.
С утренними молитвами как-то проще. Утром встаешь отдохнувшим, и, хотя все расписано буквально по минутам, потому что учителю на урок опаздывать нельзя, можно достаточно спокойно прочитать молитвенное правило в полном объеме. Оно занимает у меня от сорока минут до часа. К обычному полному правилу добавляю молитвы некоторым святым, Архангелу Михаилу, пять молитв за детей и внука и стараюсь прочитать хотя бы половину главы из Евангелия. А вот прочесть что-то из Апостольских посланий уже не успеваю. Если нахожусь в дороге или какие-то обстоятельства не позволяют все вычитать, прибегаю к наставлениям Серафима Саровского: три молитвы Иисусовы, три молитвы к Богородице и Символ веры. Мой личный опыт подсказывает, что надо обязательно сосредоточиться, прежде чем начать читать молитвы, и по окончании обязательно попросить у Господа прощения за то, что отвлекался при чтении.
А с вечерним правилом все обстоит гораздо труднее. Приходишь домой с работы порой и в семь, и в десять часов вечера, и настолько усталым, что сил никаких нет, а надо еще что-то сделать, подготовиться к следующему дню. Но от усталости можно просто заснуть, пропустив время для молитвы. Поэтому делаю все возможное, чтобы прочитать вечернее правило, перед тем как лечь спать. И как бы ни уставал, и как бы поздно это ни было, стараюсь прочесть правило полностью. На собственном опыте убедился, что давать себе послабления нельзя.
Однажды мы с одним молодым человеком решали такую проблему. Он утверждал, что надо читать свои молитвы, которые идут от сердца. На это мне пришлось ему возразить, что все молитвы из нашего молитвослова созданы великими святыми, которые вложили в них свой бесценный опыт, опыт, которого нет у нас и, может, никогда и не будет! Читая их молитвы, мы как бы встаем на молитву вместе с ними, и они нам помогают и поддерживают. В конце нашего разговора я сравнил молитвослов со скрипкой Страдивари, которую мы получили в подарок, но не можем на ней играть так, чтобы она звучала в полный голос! Ну разве я, грешный, могу создать что-то, подобное шедевру великого мастера? Конечно, можно стремиться к тому, чтобы у нас рождались свои молитвы, но они не должны заменить нам наследие святых отцов.
В течение дня стараюсь читать Иисусову молитву, но не всегда получается. Среди беготни и неотложных дел, во время урока никак не выходит. А потом спохватываешься, а день-то уже и пробежал. Говорят, что у монахов Иисусова молитва как бы пришита к сознанию, и они продолжают читать ее, чем бы ни были заняты. А у меня так пока не получается. Грешен. Но стараюсь читать, особенно в транспорте или когда делаю несложную работу.
* * *

— Как найти время на молитву? На самом деле это интересный вопрос, и он только подчеркивает парадоксальную ситуацию, в которой многие из нас пребывают. С одной стороны, мы слышим новозаветные слова «непрестанно молитесь», с другой — у нас совсем нет времени. Как же быть? Мне кажется, что нашей духовной жизни препятствует не недостаток времени, а недостаток веры. Вера в Бога невозможна вне молитвы. Для человека, который считает себя православным христианином, молитва не может не быть основой его бытия. Только молитва дает ему возможность воспринимать жизнь в ее полноте, в ее подлинности.
И все-таки вопрос о том, как найти время на молитву, на общение с Богом, встает перед каждым из нас. Отвечая на него, нужно учитывать множество факторов. Например, семейные обстоятельства. К сожалению, не в каждой семье все ее члены — верующие. Чаще всего бывает так, что к Богу пришел кто-то один, и его близких, мягко скажем, раздражает то, что он тратит время на какое-то малопонятное, с их точки зрения, занятие.
Многие, даже те, кто регулярно ходят в храм и стараются жить духовной жизнью, не успевают полностью вычитывать положенное молитвенное правило. Или успевают, но через раз. К примеру, в современном мегаполисе с его постоянными пробками в час пик, чтобы не опоздать на работу, нужно встать в пять утра. А как же молитва? Встать еще раньше? Но тогда ты весь день будешь просто никаким и не сможешь ни работать, ни молиться.
Что же делать? Мне кажется, нужно прежде всего понять, что для общения с Богом нам не нужно никакого особого времени.
Конечно, церковную дисциплину никто не отменял. Мы непременно должны себя понуждать к тому, что является церковной нормой. Однако все мы разные и неповторимые в силу своей субъективности. Даже темперамент человеческий влияет на характер молитвы. Есть люди, которые могут молиться подолгу, вычитывать правило размеренно, ни на что не отвлекаясь, а есть те, кто в силу своего темперамента не могут этого делать. Или кому это сделать гораздо труднее. Есть и те, кто в силу сложившихся обстоятельств (можно, например, вспомнить опыт тех, кто был заключен в концлагерь, тюрьму или сослан на каторгу) молится не утренними и вечерними правилами, а как-то иначе. Разве их обращение к Богу с любовью и упованием, не по молитвослову, не будет услышано? Тогда скажем прямо: молитву можно и нужно совмещать с работой, молиться можно и нужно по дороге на работу и обратно. Молиться — это значит общаться с Богом, обращаться сердечно к Нему как к Источнику Жизни. Настоящая молитва — не краткий промежуток, но длительный и хорошо, если постоянный процесс. Нужно непрестанно памятовать о Боге и понимать, что Бог — это не функция, которую можно то включить, то отключить. Жизнь христианина — это жизнь в Боге, с Богом и для Бога. Непрестанное памятование может выражаться и в маленьких молитовках: «Господи, благослови», «Господи, помилуй», «Господи, милостив буди мне грешному», «Господи, да будет воля Твоя», «Господи, помоги». Не можешь исполнить молитвенное правило полностью, сделай сколько и как можешь. Не можешь, Бог от тебя и вздох примет. Как писал Феофан Затворник одной из своих духовных дочерей: «Будьте госпожа правила, а не раба. Раба же только Божия, обязанная все минуты жизни своей посвящать на угождение Ему». В конце концов, не зря же существуют и краткие молитвенные правила, ведь каждая человеческая жизнь полна особенностей и случайностей.
Но в любом случае молитва не должна превращаться в некое времяпрепровождение, механическое и формальное произношение слов, смысл которых не доходит до молящегося. Ведь еще апостол Павел наставлял, что к молитве нужно подходить осмысленно: лучше пять слов сказать умом моим… нежели тьму слов на незнакомом языке (1 Кор. 14, 19). Об этом же говорят и все святые отцы. Конечно, я не имею в виду, что нам не нужны церковные правила и церковный устав, совсем наоборот. И хочется подчеркнуть: это прекрасно, что мы имеем в наше время такую возможность, вот так просто брать молитвослов и настраивать наши сердце и душу на «божественную волну». Но всегда важно помнить, что Богу нужны не наши слова, а наше сердце: Сыне, даждь Ми сердце твое, — говорит Господь (Прит. 23, 26). Мы не должны сводить свои отношения с Богом к двадцати минутам вычитывания утреннего и вечернего правила и искать себе оправдания, чтобы не молиться. Молитвой должна быть вся наша жизнь: Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе! (1 Фес. 5, 16–17).
* * *

— Мы часто жалуемся на нехватку времени: его не остается на что-то действительно важное. С одной стороны, ни работы, ни хлопот не избежать. С другой стороны… а точно ли это не мой собственный выбор — не иметь времени на Бога?
Почему день за днем не получается толком помолиться или почитать? Пробуешь понять и сразу вспоминаешь: настает вечер, появляется наконец свободное время, а вместе с ним одна за другой приходят (и где до того бродили?!) мысли о срочных делах: надо сделать уборку дома, позвонить кому-то, с кем давно не говорила, что-то доделать. Эти необходимые срочности сменяют одна другую — до момента, когда уже ни на дела, ни на молитву, ни на чтение объективно не остается сил.
Уже задним числом понимаешь, что и уборку можно было бы разбить на два вечера, и звонок отложить на час… Но вместо этого я добровольно дала затянуть себя в эту круговерть.
Меня сильно выручает молитвенное правило. Оно словно якорь. Когда даже по самым «объективным причинам» его сокращаю, чувствую неполноту, ненаполненность дня, словно лишилась чего-то очень важного. День разваливается, растекается, как кисель по столу.
Кроме прочего, внешнее, мир нагл и громок, как реклама. И есть опасность поддаться обману, поверив, будто то, что громче, то и важнее. Но ведь как раз Тот, Кто важнее всего и всех, не таков — Он тих и кроток.
Что помогает выдергивать себя из суеты? Не знаю, кому как, а мне страх помогает. У святителя Николая Сербского недавно прочла слова о ребенке, который гнался за стайкой весенних бабочек и, когда уже мог поймать одну, оставлял ее и гнался за другой, показавшейся ему более красивой… «Таковы и чада земные, — пишет святитель, — такова и погоня их за достижением желаемого. И, когда пробьет их последний, смертный час, они не сумеют объяснить, за чем гнались, и окажутся с пустыми руками и смятенным сердцем».
Вот когда перестанешь гнаться за бабочкой, остановишься, тогда и поймешь, что день прошел, а ты ничего не собрала; что ты устала, а от чего, не можешь вспомнить; что ты ни разу по-настоящему, от сердца, не вспомнила о Боге; что ты изо дня в день наполняешь свою жизнь второстепенными вещами и событиями, а главного в ней просто нет.
Тогда становится страшно.
И стараешься наперекор всему исправиться.
* * *

— Это тот вопрос, который я чаще всего задаю священникам — у них есть более глубокие ответы.
Если же поделиться своим доморощенным опытом, то настроиться на духовную жизнь мне помогает правильное отношение к времени. То есть когда стараешься измерять свою жизнь не месяцами и даже неделями, а одним сегодняшним днем. Тогда сразу же удается «навести резкость», увидеть, когда и почему ты сбиваешься со своего внутреннего ритма, начинаешь суетиться, делать что-то не так. Выходить из себя — необязательно кричать, чаще всего мы выходим из себя тихо и даже сами этого не замечаем.
В границах «с утра до вечера» многое становится виднее, вот только удерживаться в них день за днем очень трудно. Лично меня то и дело заносит в какое-то беспечное «потом», «когда-нибудь», так ведь гораздо легче.
Я не говорю, что мечтательность, воображение, умение планировать будущее — это плохо, без них невозможно творчество. Но в духовной жизни действуют свои законы и какое-то другое времяисчисление. Недаром существует утреннее и вечернее молитвенное правило, и это не формальность, а помощники, якоря, не дающие человеку сбежать от себя самого, от самого-самого главного…
Последние несколько лет мне очень помогала работа над серией книг «Святые в истории». Погружаясь в подробности жизни человека, достигшего святости, остро понимаешь несовершенство и суетность своей жизни, многое высвечивается, словно через какую-то чудесную лупу.
Наверное, для этого необязательно быть писателем — достаточно прочитать любую из биографий новомучеников и исповедников Российских, чтобы осознать свое маловерие и постараться перевести стрелки на сегодня и сейчас.
* * *

— Что делать, чтобы суета не мешала духовной жизни? Смотря что называть суетой: если друг отрывает тебя звонком от молитвы и по тону его чувствуется, что он хочет поддержки, совета, я считаю, что можно оторваться и помочь ему. Если ребенок пришел из школы в слезах и заперся в комнате, необходимо прервать чтение духовной литературы и постучаться к нему, спросить, что случилось. А вот немытая посуда может подождать, в Интернет можно войти и в другой раз. Мне кажется, духовная жизнь — это не только книжное образование и количество прочитанных за день молитв, а прежде всего живая помощь, сочувствие, общение и поддержка. Да, уединение и тишина необходимы, но ведь даже монахи-отшельники никогда не отказывали приходившим к ним людям в поддержке. Почему мне интересен именно такой поворот этой темы? Дело в одном частном случае. Как-то в трудную минуту я позвонила подруге и принялась сходу (может быть, сумбурно и излишне эмоционально) рассказывать, что у меня случилось, и просить совета. Она же ответила примерно так: «Я только вышла из храма после Причастия, я пока не хочу погружаться в эту проблему, я тебе потом перезвоню». То есть она в тот момент очень заботилась о своей «духовной жизни» и не хотела «осквернять» ее чужой суетой. Мне такой подход не кажется христианским. Разумеется, подруга не перезвонила, точнее, позвонила через неделю, чтобы сообщить, что в очередной своей паломнической поездке подала за меня записку. Мне хотелось ответить ей, что я, конечно, ценю ее подвиг, но иной раз два добрых слова по телефону важнее всех треб и паломничеств.
Воистину универсально послание апостола Павла о любви, которое может служить ответом на любой вопрос о духовной жизни: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий — и далее, см. 1 Кор. 13, 1–8. Ведь Бог заповедал любить не только Его, но и ближних наших (см. Мф. 22, 37–39). На мой взгляд, любовь — это и есть духовная жизнь. А для любви время всегда найдется.
* * *

— Что нам мешает найти время на духовную жизнь? Как бороться с суетой, которая не дает нам молиться?
Отвечая на эти вопросы, можно выделить две причины дефицита времени: внешнюю и внутреннюю.
Внешняя причина находится на поверхности — физическая утомляемость и занятость человека.
В современном мире человек очень занят, часто люди вынуждены работать на нескольких работах, чтобы содержать семью. Кроме того, забота о самых близких занимает много времени. Утром надо собрать ребенка в школу, в садик, всех накормить, все приготовить к наступающему дню. Естественно, что из-за всех этих забот духовная жизнь отходит на второй план. А вечером после усиленной работы или работ уставший человек порой не находит в себе сил даже помолиться.
Но внешняя причина, на мой взгляд, является следствием внутренней. Это лень и нерадение о жизни духовной. Человеку мешают молиться его собственные слабости: хочется подольше поспать, посмотреть телевизор, почитать книгу, вместо того чтобы помолиться. Часто мы вспоминаем о душе только в трудную минуту, когда случается какое-то несчастье. Тогда сразу приходит мысль: я что-то неправильно делаю. И на какое-то время жизнь духовная выходит на передний план. Но из-за лени и собственных слабостей мы снова погружаемся в суету.
На мой взгляд, бороться с этим можно — необходимо трудиться. Даже через усилия заставлять себя молиться, уделять время душе, помнить о том, что суета временна, а душа вечна.
Я, как и многие люди, стараюсь ежедневно побеждать свою лень, но, к сожалению, не всегда это удается. Наверное, для православного христианина нет никакого подвига в ежедневном чтении молитв утреннего и вечернего правила, в чтении Евангелия и Псалтири. Но в современной жизни и это трудно организовать.
В храме святителя Митрофана, епископа Воронежского, я веду кружок церковнославянского языка; на занятия приходят разные люди. Многие из них настолько трудолюбивы в молитве, настолько любознательны, что мне хочется помочь им не только в освоении церковнославянского языка, но и в осознании и восприятии смысла написанного текста. А для этого нужно самой больше знать, больше читать, и это также помогает мне бороться с внутренней ленью.
* * *

— Когда-то, много лет назад, я была просто уверена, что умею молиться и делаю это достаточно хорошо и глубоко. А обстояло дело так: обычно, устав после долгого активного дня, я поудобнее устраивалась в постели, укрывалась одеялом поуютнее и, закрыв глаза и предавшись приятным дремотным волнам, про себя перечисляла разные просьбы, которые у меня накопились на тот момент к Богу. Хорошо было лежать вот так, постепенно погружаясь в сон, и как бы между делом про себя просить: «Подай мне, Господи, то… Исправь вот это… А это сделай вот так-то и так-то… Спасибо, Господи». Вскоре такая «молитва» вкупе с мурлыканьем кошки под боком меня окончательно убаюкивала, и я, вполне довольная собой и своей духовной жизнью, крепко засыпала.
Прошли годы. Четыре весны назад я пришла в Церковь. И все стало, конечно, иначе. Уже не полежишь вечером под одеялом, удобно раскинув уставшие за день руки и ноги и требуя про себя у Господа разных там благ. Очень уж стыдно стало так… «молиться». А раз стыдно, то надо встать, приосаниться хоть немного, подойти к иконам, а лучше еще и лампадку перед ними затеплить…
И тут довольно быстро обнаружилось, что есть, оказывается, настоящая прорва самых разных забот и дел, которые меня отвлекают и не дают как следует помолиться. Такое нередко бывает: человек уверяет, что когда-нибудь он как сядет да как напишет наконец роман, ему бы только вот то-то и то-то закончить… Так и с моей молитвой. Сначала я думала — ладно, еще завтра пропущу правило, а потом наверстаю и даже целый канончик дополнительно прочитаю. Потом это «ладно, завтра уже точно» вошло в привычку, и в какой-то момент я с грустью осознала, что молитва так и не стала за прошедшие годы — годы, когда я старалась активно воцерковляться — самым важным делом в моей жизни. Отнюдь! Суета и повседневные хлопоты буквально съедали почти все мое время и силы.
И я… не то что примирилась, а просто поняла, что если не стану молиться хотя бы короткими молитвами, хотя бы по несколько минут, да хоть даже и по нескольку слов, то довольно скоро вообще все мое внутреннее пространство буквально зарастет этой никогда не проходящей суетой, как крапивой! И тогда уже расчистить хоть пятачок мне будет ой как непросто…
И я стала молиться прямо посреди суеты. Без икон и лампады… Еду в метро — про себя читаю одну за другой «Богородице, Дево». Иду по улице — тихонько напеваю «Царю Небесный» или любимый радостный псалом «Благословлю Господа на всякое время»… И так не один раз в течение дня. Сама собой потом появилась привычка тихонько или даже вовсе про себя читать Богородичное правило, когда готовлю, мою пол или глажу белье. Я быстро заметила, как «собирается» ум при этом, и пустые, а часто бесплодно тревожащие мысли перестают досаждать. А когда родилась дочка, я многие месяцы кормила ее грудью тоже под «Богородице, Дево» или «Милосердия двери» — то немногое короткое, что знала наизусть.
Утреннее и вечернее правило я крайне редко, увы, вычитываю целиком. Чаще бывает так: уложив вечером дочку и отдохнув немного рядом с нею, со вздохом и сокрушением об очередном суетливо проведенном дне опускаюсь на колени перед иконами и, глядя в темноту — потому что от света лампады или свечей, не дай Бог, проснется дочь — шепотом благодарю за все, что есть в моей жизни, прошу простить мне совершенные опять, в который уж раз, грехи и испрашиваю благословения на мирный сон, молюсь о здравии мужа, ребенка, родителей, крестников и друзей. Вот и все… Да и то, самонадеянно говоря: «Я молюсь», наверное, преувеличиваю.
Утром, пока переодеваю и умываю дочь, успеваю наизусть (когда-то запомнились сами) прочитать утренние молитвы до Символа веры. Потом, перед завтраком, подходим с дочкой к иконам и просим благословения на новый день. Вот и вся моя молитва…
Иногда, когда ребенок спит, а у меня еще есть силы, я читаю какой-нибудь канон или акафист — Божией Матери или любимым святым. Частенько его приходится прерывать на половине, а потом, бывает, засыпаю прямо рядом с дочерью.
Трудно сказать, как оно должно быть. Я пока не нашла способ, как читать целиком утреннее и вечернее правило, например… Но стараюсь в течение дня, за неизбежной суетой, помнить о Боге и почаще прочитывать хоть самую короткую молитву. Это всегда оживляет и укрепляет. И суета немного отходит — как заросли злой крапивы, которая, если ее не сечь иногда палками, как делают мальчишки на даче, заполонит собою весь двор. И уж тогда точно замучаешься выкорчевывать.
* * *

— Конечно, для того чтобы встать на молитву и прочитать молитвенное правило, посетить храм, требуется выделить некоторое время, как бы изъять себя из повседневности. Но я стараюсь не делать такого разграничения: вот сейчас я молюсь, а сейчас я живу. Мне кажется, что мы не должны отделять молитву от нашей обычной жизни, от самых обыкновенных будничных дел. И тогда нам не придется выделять для общения с Богом какое-то особое время. Я стараюсь наполнить свою жизнь, жизнь своей семьи и детей созиданием. Когда труд, а не праздность становится главным содержанием твоей жизни, ты понимаешь, что только Господь может дать тебе силы на преодоление себя, своей немощи и лени. Дела, если только они направлены на помощь ближним, вовсе не отвлекают от молитвы, а, наоборот, понуждают нас снова и снова — постоянно! — молить Господа о том, чтобы Он помог нам преодолеть все внутренние и внешние препятствия. Труд и молитва не мешают, а помогают друг другу.
Однажды я поняла, что Господь реально помогает нам не в каких-то особенных случаях, а в самых простых делах. И в тот момент я почувствовала себя счастливым человеком! Я почувствовала, что в моей жизни действительно присутствует Его любовь, и что я могу поделиться этой любовью с окружающими!
Я стараюсь посещать храм так часто, как только могу, а если нет совсем никакой возможности, восполняю это домашней молитвой. В машине я слушаю церковные песнопения. Молитва — это радость всей нашей жизни, а вовсе не то, на что нужно тратить силы и находить время с таким скрипом.
Конечно, бывает какая-то сверхурочная работа, которая поглощает все твое внимание, но при правильном отношении и она не мешает ощущать присутствие Бога в твоей жизни. Нужно просто сказать себе, что ты делаешь богоугодное дело, выполняешь работу, которая нужна людям.
* * *

— Нехватка времени не оправдывает человека, стремящегося к жизни с Богом, которая вне времени. Суета, действительно, может затянуть нас в сети, но только в том случае, если мы потратим отпущенное Господом время на попытки разрешить наши проблемы только своими силами.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, — писал апостол Павел (Фил. 4, 5). К сожалению, у нас все получается наоборот: погруженность в ежедневные заботы, а главное, неумение или нежелание обратиться со своими проблемами к Создателю и положиться на Него делает нашу молитву холодной, короткой или вообще мешает нам вознести молитву к Небесному Отцу. И вот, молитва возносится от случая к случаю или прекращается вообще. Стоит ли удивляться тому, что мы не получаем просимого?
Молитва замолкает, и тут же духи злобы поднебесной расставляют свои ловушки, насаждают вражду между родными и близкими, а человек удаляется от Света (см.: Ин. 8, 12) и просто не видит всей грязи греха, запятнавшего его жизнь. Грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает (Ин. 9, 31). Чем дальше человек отстоит от Бога, тем больше считает себя правым и, не видя собственных грехов, возмущается грехами других и даже посылает упреки своему Творцу. И ничего не меняется, а все становится только хуже и хуже…
От такого рода молитв нас ограждает, в своем послании, апостол Иаков, указывая на причину их неисполнения, весьма актуальную и в наше время: Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений (Иак. 4, 3).
Человеку, которого суета и занятость земными делами отдалили от Света, необходимо к Свету приблизиться. И при этом Свете обнаружить препятствия, мешающие чистой молитве, увидеть, насколько душа погрязла во грехах, омыть ее слезами покаяния. Если смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их (2 Пар. 7, 14). Смиренный человек почувствует Божественную благодать, изливающуюся обильно в его сердце, и тогда он осознает, что богообщение — это то, без чего жизнь просто немыслима, и никакие дела не должны нас от него отвлекать.
Журнал «Православие и современность» № 37 (53)
Я хотел бы сегодня поговорить с вами о молитве и предпошлю тому, что собираюсь сказать, одно короткое замечание. Это, конечно, не будет лекция, потому что о молитве совершенно невозможно читать лекции. Можно из очень богатой сокровищницы православного опыта выделить те или другие моменты, те или другие понятия и подчеркнуть их, можно поделиться, но нельзя ex cathedra читать лекции о молитве, потому что молитва так же неуловима, как жизнь; она, в сущности, жизнь для нашей души, и без нее жизни нет.
Надо различать две молитвы, если так можно выразиться: молитву, которая является встречей с Богом, общением с Ним, живым и глубоким соотношением между Богом и нами, и – молитвословие, которое может быть молитвой, но к сожалению так часто является только словесным упражнением. Вырваться из молитвословия в молитву или проникнуть в молитвословие настолько глубоко, чтобы в его сердце найти молитвенность – одна из основных задач духовной жизни. Это относится к тем людям, которые привыкли молиться, привыкли употреблять священные церковные слова, и для которых от повторения, от невнимательного к ним отношения эти слова стали тусклыми, потеряли свой блеск, потеряли свою действенную силу. Таким людям надо что-то делать, чтобы освободиться из этого колдовства слов, из этого плена словесного. Надо опомниться вовремя и уйти вглубь, чтобы в сердцевине этих молитвенных воздыханий, которые когда-то вырвались из живых душ среди подвига, среди молитвенного труда, в громадном напряжении всех духовных сил и при громадном иногда страдании, найти их содержание и для себя. Вот, начиная с этого, мне хотелось бы рассмотреть некоторые трудности молитвы, как они представляются нам, в нашем современном мире.
Первая трудность, с которой встречаются все, это вопрос времени, и трудность эта – двоякая. С одной стороны, найти время на молитву, а с другой стороны – не дать времени (то есть поспешности, внутреннему напряжению, тревоге о том, что время бежит) убить в нас покой и глубинность, при которых молитва возможна. Найти время и для священника может оказаться не таким легким делом, потому что и священник может быть настолько глубоко поглощен своим служением, может вообразить, что его служение: встречи с людьми, беседы с ними, совершение самих богослужения – настолько важно само по себе, что он себе не оставляет достаточно времени для того, чтобы войти внутрь себя и пребыть безмолвно, то есть без внутренней тревоги, без какого-то движения куда бы то ни было, перед лицом Живого Бога. Вы мне можете возразить, что самое богослужение есть молитва. Да, при условии, что вы в нем молитесь; но само по себе богослужение есть только очень благоприятное условие для молитвы. Человек может отстоять службу и пройти мимо молитвы, человек может ее отслужить и ни до какой глубины встречи с Богом не дойти. И это – одна из самых разрушительных вещей, которая может случиться в жизни священника.
Но другая сторона, более, мне кажется, трудная и важная, это вопрос времени как такового. Вы, наверное, все знаете, как иногда становишься на молитву, и неотступно тебя гложет сознание, что время бежит, что надо “закончить правило”, надо “вычитать” канон, надо дойти до конца чего-то, а время как будто бежит с такой быстротой, что не поспеваешь за ним. И получается, что часто человек молится все поспешнее и поспешнее. Сначала он молится с каким-то сочувствием к словам, затем – еще с каким-то пониманием того, что он делает, потом все быстрее и быстрее, будто задача в том, чтобы уложить определенное количество молитв в определенное количество времени. И часто выходит человек после такой молитвы, будто он прошел мимо Бога. Все прочел, все сказал – и ничего не случилось. Вот тут проблема времени стоит очень остро.
Говоря сначала в порядке как бы внешней техники вопроса, есть замечательный совет в сочинениях епископа Феофана Затворника. Он указывает, что для того, чтобы молитва могла быть глубокая, неспешная, спокойная, внимательная, благоговейная, надо ее определять не количеством молитв, которые предполагаешь прочесть, а временем, которым ты располагаешь, и в это время молиться предложенными нам молитвословом или другими богослужебными книгами молитвами, не заботясь о том, закончишь ты свое правило или нет, дочитаешь или нет (здесь, конечно, речь идет о частной молитве отдельного христианина). Он указывает, например, что если у человека полчаса времени по ходу его дел, пусть он становится на молитву и с крайним, предельным вниманием, собирая в себе все благоговение, на которое он способен, приносит каждое слово молитвенное, каждое молитвенное предложение Богу, не заботясь о том, что будет. И он указывает в этом письме, что если за все время, которым ты располагаешь, ты прочтешь какую-нибудь четверть или половину вечерни или другого правила, которое ты себе назначил, но прочел это всем умом, всем сердцем, всем твоим естеством, ты исполнил правило, тогда как если ты “вычитал” все, проходя мимо каждой молитвы, ради того чтобы дойти до следующей (и это бывает), ты не исполнил правило, хотя и вычитал все. Потому что Богу нужно наше сердце, наше сознание, Богу нужна, так же как и нам, встреча, а вовсе не повторение молитв, которые были сложены другими и которые мы можем принести как свои, только если вложим в них наш ум, наше сердце, нашу волю, весь порыв всего нашего естества, включая и тело наше.
Это первое, что, мне кажется, нам надо помнить, потому что если мы так начнем, вначале нам не удастся, вероятно, в короткое время прочесть длинное правило; но по мере того как мы будем внимательно, благоговейно переходить от слова к слову, от мысли к мысли, от чувства к чувству, эти чувства и мысли станут искрометными в нас, так что через некоторое время будет довольно сказать слово для того, чтобы весь ум собрался, все сердце загорелось. И тогда не приходится долгим, напористым трудом доводить до своего сознания, до своего чувства молитвенные слова, потому что сознание, подготовленное из недели в неделю, а иногда из года в год, сердце, вспаханное этим трудом, будет отзываться мгновенно. И окажется, что после долгого, медленного, частичного труда мы вдруг стали способны с полным вниманием, с полным сердечным участием, всем нашим естеством возносить молитвенно все правило Богу.
Это относится вообще ко всякой человеческой деятельности. Чем бы вы ни занимались, если вы вначале будете очень внимательно, точно, медленно выполнять свое дело, через короткое время оно настолько станет вам привычным, что вы сможете действовать все быстрее и быстрее, не теряя совершенства исполнения при этом. Если же вы будете стремиться к быстроте, то это будет всегда за счет совершенства, качества; мы все это знаем, думаю, из разных областей жизни, начиная от самых простых и до самых сложных.
Очень часто время все-таки врывается в нас, в наше сознание; и вот нам надо научиться справляться с временем, просто останавливать время. Разумеется, я говорю не о течении звезд и движении Земли вокруг Солнца; я говорю о чем-то ином. Время бывает разное. Есть время, которое определяется часами, а есть время, которое определяется внутренним переживанием. Мы все знаете, как иногда несколько минут могут казаться бесконечно долгими: когда ждешь чего-то с напряжением, или со страхом, или с тоской, или с тревогой. Но вы также знаете, наверное, как иногда мгновенно промелькнут вдруг несколько счастливых или горестных часов. И вот я об этом времени говорю, об этой остановке времени, о том, чтобы справиться с временем в этом отношении.
Первое, я думаю, что мы должны помнить – и мы не всегда помним: за временем совершенно нечего гнаться, потому что время не от нас бежит, а к нам бежит. Буду ли я спешить навстречу следующему часу моей жизни, буду ли я сидеть и ожидать его прихода – неминуемо этот час ударит; поэтому те люди, которые как бы торопятся навстречу следующему часу – напрасно трудятся. Час придет, а то время, которое употребляешь на то, чтобы к нему устремляться с волнением, можно было бы так спокойно употребить на что-нибудь другое, более путное, нежели волнение и устремленность впустую. Это важно помнить, потому что все приходит в свое время, но в свое время или, если предпочитаете, в Божие время. Как ты ни стремись достигнуть момента, когда будешь молиться углубленно, до времени ты этого не достигнешь. И напрягаться к тому, чтобы видеть плоды молитвы, результат своего труда – совершенно безрассудно; так же как земледелец не ходит каждый день в поле смотреть, проросла ли травка. Он знает, что посеял семена, а теперь – ждать. Придет срок, они взойдут, и все будет, но пока они всходят, он, как Евангелие говорит, ест и спит и делом своим занимается. А мы часто, именно под напряжением этого ожидания или устремленности вперед, не молимся сейчас всей глубиной нашей души, потому что молимся и одновременно глядим, не поднимается ли заря будущего века… И не поднимается, потому что подняться-то она может только у нас в душе, и как ни смотри вдаль, не увидишь ее. И вот, одна из задач в том, чтобы научиться справляться с этим внутренним временем. Для этого можно делать просто, очень спокойно, определенные упражнения.
Упражнения заключаются в том, чтобы, когда вам нечего делать – ничего не делать и никуда не устремляться. Это кажется очень простым делом, а попробуйте… Вот выдалось пять минут свободного времени. Что вы делаете большей частью? Ерзаете на стуле; перебираете бумаги; смотрите вокруг; складываете и раскладываете книги; перекладываете тетради; смотрите в окно; думаете о том, что будет – то есть, занимаетесь тем, чтобы момент совершенной устойчивости превратить в маленькую бурю, – ну, в какую-то рябь, бурю в стакане. Вместо этого попробуйте ( и это далеко не легкое упражнение), если у вас есть пять минут, когда вам просто, вполне законно нечего делать, – сядьте и не делайте ничего. Сядьте и осознайте: вот я – Петр, Иван – сижу. Вокруг меня тихо, ничего не происходит и нечему происходить, и я – перед лицом Божиим; и побудьте эти какие-то мгновения перед Божиим лицом. Вы увидите, что это далеко не так легко, потому что начнутся кружиться мысли, как мошкара в весенний вечер, по словам Феофана Затворника; какие-то воспоминания начнут подниматься в душе, что-то будет подсказывать: Ах! а я забыл то, и другое, и третье, что надо сделать; тревога начнется, напряжение тела… И вот надо научиться справляться и со своим телом. Надо научиться сесть и расслабиться, сесть так, чтобы не сидеть, будто на угольках, а сидеть, как на стуле или в кресле, “осесть”, добиться покоя телесного, вслушаться в тишину, которая вокруг.
Здесь борьба с временем, с тревогой, которую время рождает в нас, совпадает с исканием внутреннего и внешнего молчания. Внешне молчать мы кое-как можем, хотя и тут мы часто воображаем, что молчим, а на самом деле ведем постоянный диалог с самим собой. Это тоже – течение, а не стояние перед Богом. Но вот я хочу вам рассказать про одну старую женщину (кажется, я о ней рассказывал в свое время здесь, – простите те, кто это помнит).
Вскоре после моего рукоположения пришла ко мне старушка, говорит: “Вот уже много лет я занимаюсь постоянно Иисусовой молитвой, и никогда Божьего присутствия ощутить не умела; что же мне делать?” Я ей посоветовал то, что мне казалось очень разумным: обратиться к кому-нибудь, кто умеет молиться. Она мне в ответ: “Да я всех спрашивала, кто знает, и ответа не получила, так я решила вас спросить…” Ну, утешительно было. Я тогда ей сказал по простоте: “Как вы думаете – когда же Богу слово вставить, если вы все время только и делаете, что говорите? Вы бы помолчали перед лицом Божиим”. – “А как это сделать?” Говорю: “Вот утром проснетесь, приберетесь, позавтракаете, уберете свою комнату, а потом сядьте поуютнее перед своей лампадой в комнате и занимайтесь вязанием перед лицом Божиим, только не молитесь, а просто сидите в сознании, что и вы тут, и Бог тут”. Мне вспомнился, по правде сказать, случай из жизни одного католического святого, который был приходским священником и обратился раз к крестьянину, часами сидевшему в церкви. Четок он не перебирал, губы у него не двигались, он просто сидел. И священник его спросил: “Что ты часами делаешь в церкви?” Тот Ответил: “Я на Него гляжу, Он – на меня, и нам так хорошо друг со другом…” Мне вспомнились эти слова, и я подумал: пусть старушечка моя попробует, не будет ли Богу и ей хорошо просто друг со другом и не скажется ли это как-то у нее в сердце сознанием, что Бог тут?
Через некоторое время приходит моя старушечка и говорит: “Знаете что, на самом деле что-то выходит!” Я спросил: “А что именно?” И она рассказала, как она убрала свою комнату, уселась в кресло, начала вязать и впервые после многих лет начала озираться вокруг не для того, чтобы что-то сделать, а просто посмотреть; и впервые после многих лет она увидела свою комнату не как место какой-то отчаянной деятельности, а просто как место покоя, где она живет – светлое, тихое, чистое, привычное, с лампадкой. Тихо стало вокруг, и у нее стало как-то тише в голове; стала вязать и прислушиваться к тому, как звякают спицы по ручкам кресла. От этого еще как-то тише стало в комнате. Так она молчала, и вязала, и радовалась душой на тишину, в которой сидела. А потом эта тишина начала в нее как-то постепенно вливаться. Ей стало тише и тише, телесно, душевно. “А потом, – сказала она, – не знаю, как это объяснить, но я почувствовала, что то молчание, та тишина, которые царствуют вокруг – не просто отсутствие шума, а присутствие какой-то сущностной тишины, и что в сердцевине этой тишины – Бог”.
Вот о чем я думаю как о первом шаге: сядь; утихни; подумай о том, что Бог здесь, что искать Его нигде не нужно, что тебе хорошо с Ним и Ему хорошо с тобой; и просто побудь, сколько можешь. Через короткое время по непривычке это станет упражнением слишком трудным. Я думаю, две-три минуты от силы выдержишь для начала. Тогда тихонько начни молиться. Но молиться такой молитвой, которая не разбивала бы тишину: Господи, помилуй… Господи, помилуй… – или что угодно. Ведь царь Давид в одном из своих псалмов говорит: Радость Ты моя!.. – можно и так к Богу обратиться. Что угодно можно сказать, лишь бы слова не были отрицанием и уничтожением той тишины, которая начинает рождаться в душе. Вы сами знаете, как иногда неожиданно, без того чтобы мы что бы то ни было сделали, на нас сходит тишина. Бывает это в любой обстановке, не обязательно там где тихо, не обязательно в лесу, в поле, не обязательно в пустой церкви; иногда среди шума житейского, среди тревоги вдруг коснется души какая-то тихость, и душа уходит вглубь, в какой-то град Китеж, который (вдруг оказывается) есть под бурной или рябой поверхностью нашей души и нашего сознания. Иногда это бывает, когда вдвоем с кем-нибудь сидишь. Поговоришь; потом и говорить не хочется, и уходишь вглубь, и все глубже, и делается все тише, и нельзя тогда ничего сказать, потому что кажется, что любое слово разобьет, вдребезги разнесет эту тишину. А потом эта тишина делается такая глубокая, что в ней начинает рождаться возможность что-то сказать; и тогда говоришь осторожно, трезво, немногоречиво, тихо, и каждое слово выбираешь так, чтобы в нем была правда и чтобы оно не разбивало эту Богом данную тишину.
Один западный подвижник одиннадцатого века, оставшийся безымянным, написал такую фразу: “Если на самом деле Сын есть Слово Отчее, то мы по справедливости можем сказать, что Бог – это то бездонное безмолвие, то бездонное молчание, из которого только и может прозвучать слово, до конца совпадающее с молчанием и выражающее его”. Вот если дойти до такой тишины, тогда можно начать говорить какие-то молитвенные слова; но говорить их с такой бережностью, так осторожно, чтобы не нарушить то, что дал Бог: тишину, безмолвие, молчание. И не справедливо ли попутно заметить, что и некоторые состояния, которые мы иначе определяем, являются благоговейным безмолвием; вера, например, как уверенность в вещах незримых, когда мы стоим на грани, зная и ведая, но ничего не говоря и не в состоянии что-либо сказать о той тайне, перед которой мы стоим.
Вот попробуйте это в виде первого упражнения. Но этого недостаточно. Надо научиться удержать состояние, свободное от тревоги, и тогда, когда тревога собирается ворваться. Бывает, например: собрался, стало тихо, назначил себе какие-то пять минут молчания, и вдруг кто-то постучал в дверь. Можно было бы и не отозваться, но сразу сердце всколыхнулось, мысли забегали, любопытство начинает уже грызть, покой-то ушел, хочется открыть дверь. Конечно, мы это прикрываем названием братолюбия, внимания, правдивого отношения к тому человеку, который стучит в дверь; на самом деле на две трети это просто неспособность спокойно сидеть и любопытство.
И вот, второе упражнение заключается в том, чтобы себе сказать: может быть, постучат в дверь, может быть, будет звонок в передней, может быть – телефон, мало ли что может быть, – а меня нет, я теперь уже не в этой комнате, я в Божием присутствии. Мы так поступаем постоянно, только не замечаем этого. Когда вы ушли, например, на базар, и кто-то стучится к вам в комнату, никто не открывает; когда вы ушли куда-нибудь на прогулку, к друзьям, никто не открывает вашей двери. Поэтому так и смотрите: я – в присутствии Божием, значит, некому и открывать. Если вы постарше да поэнергичнее, тогда вы можете поступать – как бы сказать помягче? – с большей уверенностью. Мой отец любил молиться и жил одиноко, и на свою дверь приделал записку: “Я дома, но не трудитесь стучать, – все равно не открою.”. Если у вас такое положение, когда вам хочется быть правдивым до конца и вместе с тем обеспечить себе эти несчастные пять минут (за которые все без вас обойдутся: честное слово, никто из нас не настолько необходим миру, чтобы мир не мог бы пяти минут обойтись без нас) – обеспечьте себе эти пять минут, как хотите: сделайте вид, что вас нет, спрячьтесь. Был когда-то в Петербурге отец Александр Косухин, большой друг Иоанна Кронштадтского, – тот себе устроил прямо из алтаря лесенку на чердак. Кончал литургию и по лесенке влезал на чердак, тянул лесенку за собой, и пока он “про жадную душу” не намолится, не спускался. Прихожане могли его искать, и прислужники шныряли по алтарю, думали: куда делся? А потом привыкли, что его нет после литургии, и все привыкли, и ничего ни с кем не сталось. И ни с кем ничего не станется, если на пять минут вы исчезнете с горизонта людского. Правда, мир может обойтись без каждого из нас пять минут и даже больше.
Если вы научитесь сидеть совершенно спокойно за дверью, в совершенном покое и тишине, когда кто-нибудь стучит, когда зовут по имени, это уже будет начало того, чтобы уметь останавливать время. И тогда вы можете останавливаться в нынешнем моменте. Дело-то в том, что вы не можете молиться ни в прошлом вашем, ни в вашем будущем, а только в то мгновение, в котором вы сейчас находитесь. Прошлое прошло, и туда возврата нет. Будущее впереди, и вас там еще нет; а вы находитесь в том мгновении, где и Бог и вы в вечности и во времени одновременно, – в объективном времени и в божественной вечности. Научиться жить в том мгновении, в котором мы находимся, не всегда легко, потому что мы привыкли к тому, чтобы настоящее было только такой воображаемой гранью между прошлым и будущим; мы переходим из прошлого в будущее, как, знаете, перекатывается яйцо, когда катаешь крашеное яйцо на полотенце. Оно сначала тут, потом там, но нигде не задерживается; так и мы ни в какое мгновение не находимся в реальности, в нашем настоящем. Отчасти мы живем тем, что только что было, и не умеем высвободиться; отчасти мы уже где-то впереди себя, то есть спешим. И вот тут надо научиться делать различением между быстротой и поспешностью; различение это очень простое.
Вы, наверное, видели, как человек старый или увечный, или слабый старается догнать троллейбус или идущего впереди приятеля: он спешит отчаянно, а движется медленно. И все время, пока он спешит, он старается поймать самого себя, идущего впереди него. Ему хочется каждое мгновение быть на шаг дальше, чем он есть. И вы знаете тоже, как бывает во время отпуска, каникул летних: идешь бесцельно, но чувствуешь себя хорошо, бодро, жизнь чувствуется в теле. Можешь и побежать, но никуда не спешишь, потому что никуда не стараешься попасть раньше того момента, когда до этого места дойдешь. И вот то же самое бывает с нашим внутренним миром. Мы не имеем права стараться добраться куда-то, мы должны там, где находимся, делать все, что сейчас можем. Будь всем, что ты есть, делай все, что ты можешь; а время, как я в начале говорил, в твою пользу работает, оно к тебе течет, оно мимо тебя проходит, спереди назад, и дойдет до места, которое тебе нужно.
Я это испытал, когда меня во время немецкой оккупации арестовали. В тот момент я вдруг обнаружил очень интересную вещь. Во-первых, что прошлое вдруг мгновенно исчезло, потому что прошлое было таково, что меня за него засадили бы и, вероятно, расстреляли; значит, реальному прошлому не было места, оно должно было исчезнуть. А того нереального прошлого, которое я собирался рассказывать, когда меня будут допрашивать, все равно не было; значит, я оказался без прошлого. И еще другую интересную вещь я обнаружил: будущее существует для нас, лишь поскольку мы можем вообразить, что будет впереди, и перенестись туда; но когда и вообразить не можешь, то и переноситься некуда, и будущее вдруг исчезает. Так бывает, когда войдешь в темную комнату, и ничего не видно, и весь мир кончается вот тут, потому что впереди только тьма, нет никакого пространства, а только глубокая тьма. И вот находишься, как будто в геометрическом плане, в малюсеньком отрезке времени, в котором сосредоточилось все твое прошлое и из которого может вырасти все твое будущее.
Такой момент, такое состояние дает нам возможность молиться всеми силами нашего естества – и ума, и сердца, и воли, и тела, потому что все сосредоточено в одну-единственную точку, которая достигает такой напряженности, такой сгущенности, что если только она разрядится, то на ней можно действительно строить будущее. И из этой точки можно смотреть на прошлое, но не быть воображением в своем прошлом; можно смотреть вперед, но не быть как будто где-то там, впереди, а быть здесь и смотреть вперед, как человек смотрит, например, в окно. Он – в комнате, сад снаружи; он видит сад, он может или вообразить себя в саду, или знать, что он здесь, за стеклом (а то и за решеткой)… И вот, если научиться этому – а научиться этому можно просто теми упражнениями, которые я указывал – тогда можно стоять перед Богом.
Ведь это опыт, который есть у нас и в других областях. Скажем, когда мы едем куда-то на поезде, поезд мчится, а мы сидим в совершенном покое, смотрим в окно, читаем газету или книгу, можем молиться, можем разговаривать, причем не о том месте, куда мы едем, и не о том, что мы там будем делать, и не о том, что нас там ожидает, а просто о том, что нам интересно говорить нашему спутнику или от него слышать. Почему же нам не применить это в молитве? Это опыт каждодневный; ведь только очень неразумные люди, когда едут из Одессы в Ленинград, во время путешествия стараются перебраться из последнего вагона в первый, чтобы быть ближе к месту прибытия. Всякий же понимает, что на таком расстоянии весь поезд меньше полувершка, значит, не стоит и двигаться. А в нашем молитвенном пути мы стараемся эти полвершка пройти вот-вот теперь, будто мы будем ближе к небу от того, что мы вот столько-то прошли. А небо само к нам идет, и время нас туда несет, только бы мы занимались своим делом и ввели небо в то место, где мы находимся, потому что это зависит от нас. Если мы живем в настоящем мгновении, если мы в это мгновение пребываем перед лицом Божиим, – все небо тут, и нечего его искать где-то за облаками: там его нет, оно только тут, где Бог и я находимся вместе, лицом к лицу, – и даже больше, чем лицом к лицу.
Мне кажется, что вопрос времени, о котором я сейчас очень много говорил, чрезвычайно важен, потому что на этом разбивается очень много молитвенного усилия.
Другая вещь, о которой я хочу сказать, это то, о чем епископ Феофан тоже пишет в первом из своих “Четырех слов о молитве”. Он говорит, что ко всякому делу мы приступаем с какой-то расстановкой и подготовкой; только в молитвенное делание, нам кажется, мы можем в любую минуту опрометью броситься. И он дает такой пример. Вот хочешь написать письмо. Вернулся ты домой разгоряченный, взволнованный; разденешься, повесишь верхнюю одежду на крючок; вымоешь руки, остынешь; потом подойдешь к письменному столу, сядешь, притом поудобнее, возьмешь бумагу, выберешь перо и подумаешь: во-первых – кому я пишу, во-вторых – какие у меня отношения с ним, как обратиться к нему, какими словами, каким стилем; и только тогда начнешь писать. А иногда даже заранее как-то распределишь разные вещи, о которых хочешь сказать, в определенном, разумном, осмысленном порядке.
Делаем ли мы это, когда становимся на одинокую молитву, или даем ли мы себе время, когда приходим в храм на общую церковную молитву, прийти достаточно рано, чтобы успеть это сделать раньше, чем первый возглас уже внесет нас в ту область, к которой мы еще не подготовлены? Знаете, иногда волна на краю моря вас возьмет и собьет, и унесет; хотя и плавать умеешь, и собирался в воду, но без внимания подошел, и событие опередило твою готовность. И мне кажется справедливо сказать человеку, который начинает молиться (а начинающие – мы все, и годами мы начинающие, и всю жизнь мы начинающие, потому что каждый день – день совершенно новый, небывалый, и в каждый день мы вступаем совершенно новыми людьми, небывалыми; ночь, которая разделяет прошлый день от настоящего, это время как бы небытия для нас, мы вновь рождаемся в новый день): стань и поставь себе первый вопрос: к кому я пришел? Верю ли я, что стою перед Божиим лицом? Есть ли во мне какой-то опыт того, что Бог действительно есть и что я перед Ним стою? И потом не стараясь – это очень важно – картинно себе представить, будто стоишь перед Богом или будто Бог перед тобой (потому что тогда я построю себе фантастический образ и буду обращаться к этому образу, а не к Живому, непостижимому, бездонно-таинственному Богу), встать и верой сказать: Верую, Господи, что Ты тут, и буду стоять перед Тобой, невидимым, непостижимым, с готовностью пережить Твое присутствие или пережить – субъективно говоря – Твое мнимое отсутствие, потому что я не смогу дойти до Тебя!..
Это – первое. Второе: честно и правдиво осознать перед Божиим лицом, с чем я теперь стою перед Богом. Вы благочестиво скажете: я стою перед Богом с благоговением, с верой и т.д. Оно так звучит лучше, чем есть; потому что если вечером, когда вы устали от дневного труда, когда вам хочется или почитать что-нибудь, или просто лечь, вы поставите перед собой вопрос: с чем я сейчас стою перед Богом, очень ли мне хочется молиться, ждал ли я весь день этого мгновения встречи с Богом, вы, вероятно, часто ответите: нет, весь день был занят чем угодно, я занимался даже предметами, которые как-то косвенно относятся к Богу, скажем, богословием в той или другой форме; но я не ждал этого мгновения, когда наконец мы будем вдвоем и одни. Если покопаться, бывает, что честно ответишь: становлюсь я на молитву, потому что во мне сидит какие-то суеверие: не помолюсь – Бог не защитит в течение ночи… Я сомневаюсь, чтобы с вами такого не бывало, но даже если допустить, что этого с вами не бывает, то бывает с другими людьми.
Определите то состояние, тот строй, с которым вы к Богу пришли, и скажите Ему прямо: Господи, по правде сказать, мне не хочется сейчас молиться, по правде сказать, я бы предпочел, чтобы можно было без этого обойтись, только боюсь, или стыжусь, или чувство долга во мне крепко, а любви-то к Тебе очень мало… И так далее: посмотрите в свое сердце и найдете массу ответов; и признайтесь, скажите Богу, и с этого и начните свою молитву. Раньше чем читать молитвы святых, где выражаются чувства, которые у вас – у нас – должны бы быть, но которых так часто нет, поисповедайтесь Ему в своем настроении, в своем расположении.
Сделайте так, и тогда вы можете встретить два рода обстоятельств. Или от того, что вы были правдивы и честны, в вас родится живое, добротное чувство к Богу, и вы сможете начать с Ним говорить; или же до чувства вам не удастся дойти. Если родится какое-то живое чувство: пусть будет покаяние, пусть будет благодарность, пусть будет трепет – тогда берите молитвенник и читайте внимательно, отдавая себе отчет в том, что означает то, что вы говорите. Вот первые слова вечернего, утреннего правила, всякой службы, которую мирянин вычитывает: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Большей частью это воспринимается людьми как просто вступление; но не значат ли эти слова, что я стал теперь перед Богом в Его имя, а не в свое, не от себя, а от Него, не ради себя, а ради Него; что все, что сейчас будет происходить в молитвенном порядке, зиждется на Нем, покоится на Нем, уходит в Него и вернется от Него ко мне. Возьмите хоть такую фразу и скажите ее сознательно, и вы увидите, что в то же мгновение сделается это очень трудным. Потому что просто сказать: Во имя Отца и Сына и Святого Духа – не трудно, а сказать это и себя просто отстранить, отодвинуть в сторону, и действовать в Божие имя, ради Него – совсем другое дело. И тут начинается наше освобождение от себя самого, от духовного корыстолюбия, от всяких переживаний, которые у нас есть и от которых гниет в нас молитвенный дух.
Потом дальше читайте молитвы – спокойно, читайте их, не направляя к Богу куда-то, а направляя их острие на себя самого, то есть доводите до своего собственного сознания, до своего собственного чувства, до своей собственной воли, до своего тела эти молитвенные слова, так, чтобы они вошли в вас, и всем сознанием, всем сердцем, всей волей, всем напряжением телесным, которое только вам доступно, воспринимайте эти слова. Не беспокойтесь: когда вы их доведете до сердца, оттуда они сами вспорхнут к престолу Божию. А если вы будете из уст их отсылать в небеса, то до вас они не дойдут, а до Бога они дойдут как молитвы других людей, которые их складывали, и вы будете просто чтецом, который прочел, но это не ваши молитвы будут.
Бывают другие случаи, когда сердце настолько мертво, когда силы и жизни отозваться не хватает, – тогда можно произносить эти молитвы из убеждения, а не из переживания. Вы знаете, как иногда бывает: устанешь до предела и однако действуешь в том или другом направлении, потому что знаешь, что хоть сейчас ты этого не ощущаешь, но где-то в тебе чувство живет. Бывает так: вернешься домой совершенно изможденный от усталости. Если тебя спросить: а скажи, ты чувствуешь живую любовь к тому человеку, который вот теперь тебя неожиданно посетил и требует помощи? – ты скажешь: нет, не чувствую, потому что я так устал всей душой и телом, что не добраться до чувства, я мертв, но буду действовать, будто я это чувствую; не лицемеря, а потому что знаю, что отойдет усталость, снова поднимется, как град Китеж из глубин, живое чувство. И тогда можно эти же молитвы произносить из убеждения, а не из чувства, произносить их, сказав Богу: Господи, я сейчас не могу собрать никаких чувств, даже мысли мои еле-еле ползут по этим словам, но эти слова выражают все, во что я верю, эти слова правдивы до конца, и я их говорю со всей правдивостью, несмотря на мое бессилие их в данную минуту пережить… Но говорить их иначе, то есть притворяясь, будто это то, что я чувствую и думаю, когда мысли разбегаются, когда сердце безучастно, когда и мысли не имеешь о том, чтобы исполнить на самом деле то, что говоришь – это безбожно, это кощунственно. И вот, если вы будете учиться изо дня в день молиться ответственно, молиться так, чтобы каждая молитва стала вашей, то когда вы придете в храм, душа ваша будет готова, как арфа, запеть под рукой того, кто на ней играет – Духа Святого.
И для того чтобы это стало возможно, надо сделать еще одно последнее: надо, чтобы молитва и жизнь так между собой переплелись, чтобы одна выражала другую. Нельзя вечером или утром становиться перед Богом и говорить Ему те или другие слова, и затем жить наперекор всему тому, что ты исповедал в своей молитве. Нельзя говорить Богу: Готово сердце мое, Господи, готово сердце мое…; нельзя говорить Богу: Душа моя яко земля безводная Тебе или: Яко лань, стремящаяся на источники вод, когда никуда не стремишься и душа ничего не ощущает подобного. Но еще меньше можно говорить Богу ответственные слова: прощаю.., имею волю каяться.., хочу… того или другого, как мы говорим в утренних и вечерних молитвах, и не касаться этих слов на самом деле в жизни; потому что тогда слова постепенно тускнеют, их покрывает плесень, они делаются безвкусными, они делаются со временем приторными и противными, ибо они отдают ложью и бесконечным повторением.
Если же мы возьмем каждую молитву, которой молимся, и разделим ее на такие предложения, которые мы можем провести в жизнь, и день за днем будем посвящать тому, чтобы жить этими молитвами, жить по часу, по два, по три одним предложением; если брать отдельные предложения: не стану осуждать, не стану делать того, буду делать то – как правило на час, на два, на три, на полдня, на неделю (в зависимости от того, насколько хватит в нас не только духа, а прошколенности в этом отношении, устойчивости, способности на продолжительный труд, чего у всех нас чрезвычайно мало) – если так будем поступать, то эти слова никогда пленкой никакой не подернутся, они будут каждый день, как меч острый, и когда мы будем приходить с утра к вечеру или с вечера на утро к молитве, то каждое это слово, каждое предложение, каждая молитва будет или судить нас, или раскрывать перед нами божественную подвижническую программу жизни.
Вот если вы попробуете применить к делу те две-три вещи, о которых я сегодня говорил, сознавая, что вы в самом начале вашего пути, как все мы, без исключения, каждый день, на самом начале пути, вы увидите, что соберется постепенно молитва, и тогда она уже будет не внешним упражнением, и даже не состоянием души, а самым бытием нашим. Но для этого нужно, чтобы молитва и жизнь стали одно, как Ефрем Сирин говорит: не заключай в одни слова молитву твою, пусть вся твоя жизнь станет богослужением.
Владыко, простите, вот Вы говорите о молитве. Но ведь мы живем в сложных ситуациях, поэтому нельзя мыслить о человеке, как об этой старушке она углубилась и вяжет себе чулок. Мы живем в мире, где масса не от нас зависящих вещей. Это проблема, по-моему…
– Это проблема; но я вам отвечу для начала сравнением. Когда на вас найдет большое, подлинное горе или громадная, захлестывающая радость, то очень ли окружающий мир в течение дня мешает носить ее в сердце, переживать и все делать на фоне ее? Едва ли. Беда в том, что молитва уходит, как солнце за тучу, потому что наша молитва, наше предстояние перед Богом, наше переживание Бога гораздо слабее того, что у нас бывает в жизни, когда близкий человек умрет или когда мы вдруг обнаружим, что человек, о котором мы думали, что он погиб –жив и перед нами. Об этом надо подумать, потому что это факт нашей жизни.
Другое вот что можно сказать. Житие одного из святых рассказывает следующее. Когда он был еще юношей, он услышал в церкви какие-то слова о молитве, которые его так поразили, что он захотел уйти и только этим жить: молиться, молиться, молиться… Был он безграмотный и необразованный церковно, и поэтому знал-то, кажется, только “Отче наш”. Ушел он в соседнюю гору и первые часы повторял эту молитву. Пока душа была жива, трепетна, он ее повторял раз за разом с живым, трепетным чувством. А потом день начал склоняться к вечеру. Ему было лет девятнадцать, его стал мучить голод, и он решил поискать, чем бы покормиться. Стал ходить собрал каких-то ягод, поел их немножко, голод не очень-то утолил. А к тому времени стало смеркаться все больше и больше, и он начал слышать, как вокруг него просыпается жизнь леса, жизнь гор: звери хищные. То глаза блеснут, то легкие шаги слышны – и на него напал страх. И тогда он начал кричать перед Богом: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, спаси меня!.. И всю ночь со страху он так кричал. Утро пришло, звери улеглись в свои берлоги, и пришло время ему ягоды искать. Но теперь он уже знал, что под каждым кустом может сидеть один из тех страшных зверей, которые всю ночь рыскали вокруг него. И стал он ходить в своих поисках еды и все время говорил: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!.. Голод его мучил, ночь он не спал, усталость его одолевала. И стал он все отчаяннее взывать к Богу о помощи, потому что он не видел себе ни помощи, ни спасения. И ночь настала, и день настал; и так год за годом прошли.
Однажды, уже много лет спустя, когда он был уже стариком и прославленным, его посетил подвижник из какой-то пустыни и спросил: “Отче, кто тебя научил непрестанной молитве?” И тот ответил: “Бесы…”Потому что кроме зверей, голода, холода и одиночества, к которым он прижился довольно-таки быстро, начали нападать на него роями и помыслы, и плотские движения, и воспоминания, и все возможные соблазны. И чем больше они на него нападали, тем больше он кричал о помощи, до дня, когда вдруг перед ним явился Христос и настала тишина. Но к тому моменту он научился основному, чему всякий подвижник должен научиться: что если только Господь отнимет Свою защиту, никакие свои или другие человеческие силы не помогут. И поэтому он продолжал молиться. Хоть зверей он больше не боялся, хоть голод он преодолел, хоть подвижником он стал в бдениях, хоть бесы в это время отошли, он продолжал молиться той же молитвой.
И мне кажется, нам надо помнить, что если бы мы умели использовать все случающееся для того, чтобы молиться, нам некогда было бы заниматься чем бы то ни было другим: каждое мгновение нам предоставляет эту возможность, и даже то неладное, что в нас происходит. Если каждый раз, когда мы видим зло вокруг себя, мы на него отзывались бы состраданием, вместо того чтобы отзываться осуждением, и говорили: “Господи, спаси этого человека, прости ему; если я ошибся в своем суждении – слава Богу, но если я прав, только не осуди его, как я его осудил”; если, когда мы обнаруживаем, что не успели посострадать, а только осудили, мы повернемся потом душой к Богу и скажем: “Господи, прости, и только, только не осуди, как я осудил”; если каждый раз, когда мы сделаем что-нибудь доброе, мы с изумлением станем перед Богом и скажем: “Господи, спасибо Тебе, что Ты мне дал это сделать, своими силами я никак бы не смог”, тогда и грех, и добро, и зло, и наша слабость – все было бы для нас постоянным рядом обстоятельств для молитвы. Поэтому мешает нам не делание, мешает нам не то, что вокруг делается, а мешает нам молиться то, что в нас делается, и то, чего мы внутри себя не делаем. Были святые – возьмите апостолов, возьмите некоторых других подвижников, которые жили в постоянной суете: Амвросий Оптинский хотя бы, Серафим Саровский последние годы жизни, и другие, для которых все было пищей для молитвы, как дрова – пища для огня.
Если мы не можем молиться от окружающей нас бури, то лишь потому, что пустили бурю внутрь, не потому что буря вокруг. Ибо пока буря вокруг и мы в буре, мы кричим к Богу отчаянно; когда вдруг она ворвалась, мы уже больше кричать к Богу не можем, потому что она нас бьет во все стороны. Возьмите евангельский рассказ о буре на море Генисаретском, когда Христос спал на корме, и апостолы боролись со смертью, с волнами. Сначала они боролись, потом отчаялись и допустили тревогу и бурю внутрь. Это ясно видно из того, что они подошли ко Христу и не сказали Ему: “Господи, Тебе дана всякая власть на небе и на земле, Ты Хозяин жизни и смерти, Ты – Господь, сотворивший при нас столько чудес! Сотвори по воле Твоей и спаси нам!” Нет! Они его разбудили и сказали: Неужели Тебе дела нет до того, что мы погибаем?.. Они уже не думали о том, что Он имеет власть одним слово утишить бурю или их спаси иным образом. Они только хотели Его, своего Учителя и Бога, вовлечь в собственную тревогу. Если перефразировать, можно было бы так сказать: “Господи, если Ты ничего не можешь сделать, хоть не спи, хоть помучься с нами!” И Христос на это так и отзывается. Евангелие в этом смысле метко подчеркивает, что Христос не только на корме спал – с головой на подушке спал: Богу дела не было до них, Он Себе в Своем покое отдыхал, пока они, Его несчастные ученики, мучились. И Христос встает и говорит им: Маловеры, доколе Я буду с вами? А потом, уже не обращая внимания на этих Своих учеников и не давая буре войти в Себя, Он обращается к ветрам и к морю и говорит: Умолкни, утихни. Как бы Свой покой вливая в эту бурю и побеждая Своим Божественным покоем бурю тварную.
А мы это делаем постоянно. Когда буря вокруг нас, мы не стоим там, где стоит Господь, и не говорим: молюсь – а буря вокруг утихнет, когда придет время Божие и когда внутренний мой покой достигнет такой устойчивости , что вокруг него ничего не сможет волноваться. И здесь вспомните слова Серафимовы: “Стяжи мир – тысячи спасутся вокруг тебя”.
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.
(Мф. 5: 10–12)
Блаженства Христа описывают духовную жизнь, которую Господь дает человеку в Церкви. Они точно определяют качество этой жизни и пространство, в котором она развивается, сосредотачивается и существует. Однако поверхностный взгляд может привести к неправильному пониманию их смысла. Но если мы глубоко вдумаемся в эти слова Христа и разберем их, то увидим, что в конце концов все это приводит к одному результату – не к чему иному, как к Царству Божиему, то есть к Самому Христу, к нашему общению с Христом. При этом Сам Христос говорит:
– Я Альфа и Омега, Начало и Конец!

Он Путь, по которому Он ведет нас, но также Он и Конец Пути, и Он Тот, Кто нас интересует. Наша жизнь развивается и вращается вокруг Христа, а не вокруг идеи – идеи праведности, как здесь сказано, блаженной и гонимой. В Церкви правда – это не какая-то идея о правде, идея о справедливости, которая есть у нас, ведь в мире царит несправедливость и разные другие неправды, их необходимо исправить, поэтому есть люди, поступающие хорошо и борющиеся за «навязывание» правды человеческому обществу, насколько это возможно. Эти люди, борющиеся за правду, достойны похвалы, но не их делает счастливыми Господь в Евангелии. Правда для человека – это приход Божией благодати в его сердце, то есть это его исцеление. Говоря другими словами, неоправданный человек – это человек, лишенный Божией благодати, а оправданный – это человек, имеющий Божию благодать. Как и в повседневной жизни: мы говорим, что этот человек злополучен, потому что лишен родителей или еще чего-то, что должно быть: здоровья, развития, денег, всего остального, что считается признаком благополучия, – или вообще умер молодым.
Считается, что такой человек пострадал от неправды, но самая большая неправда – когда человек лишается Божией благодати. Вот подлинная неправда, и оправдание человека происходит тогда, когда Божия благодать возвращается к нему и уже непосредственно воссоздает человека, оправдывает его, дает ему оправдание, которого ему не хватало, дает ему возможность иметь общение со своим Небесным Отцом – Богом. Отсутствие Небесного Отца – величайшая неправда для человека: лишить себя присутствия Живого Бога! Это наибольшая неправда, которую ты можешь причинить себе.
Самая большая неправда – когда человек лишается Божией благодати
И самое большое зло для тебя, если ты сам станешь причиной разрыва общения с Небесным Отцом. Затем ты развиваешь в себе комплекс отсутствия родителя. Отсутствие биологических родителей вызывает различные психические реакции и осложнения в душе человека, а насколько же больше таких реакций вызывает отсутствие Небесного Отца! Это всегда сильно выражается и зримо проявляется в человеке. И как бы мы ни старались скрыть это, как бы ни уходили от осознания этого, все равно тому, кто имеет духовный опыт и знает, что такое духовная жизнь, то есть имеющему опыт этого духовного равновесия, которое даруется Божией благодатью, ясно видно «излучение» нашего состояния, возникшего из-за отсутствия Небесного Отца.
Мы идем к духовнику и получаем ответ, который, как нам кажется, не соответствует нашему вопросу, то есть мы говорим:
– Знаете, батюшка, я хожу босой, и у меня ноги болят!
И духовник, вместо того чтобы сказать нам: «Идите и купите себе обувь, чтобы не ходить босым», говорит:
– Бога нет с вами! Вам нужно восстановить свои отношения с Ним!
Кажется, что ответ никак не связан с вопросом. Когда я был начинающим монахом, то тоже сталкивался с такими ответами.
Однажды к моему старцу пришли несколько молодых людей и о чем-то спрашивали его. В то время я как раз окончил университет. Когда они задавали вопросы старцу, в моем уме уже «рождались» ответы – философские, университетские, академические. А старец отвечал им по-другому. Юноши спрашивали одно, а он отвечал другое. Я говорил себе: «Наверное, старец не понимает, о чем его спрашивают». Они были филологами, а один из них – археологом. Старец не отвечал на их вопросы, рассказывал совсем о другом. Все во мне кричало:
– Неужели он не слышит, что ему говорят?! Что за шутки?
Молодые люди спрашивали его про «А», а он рассказывал им про «Б». Это происходило и раз, и другой, и третий. Я так возмутился всем этим, что захотел исправить ситуацию, объяснить старцу, что люди спрашивают его об одном, а он рассказывает им про другое.
И мало того, что он не отвечал на их вопросы, но он еще и гневался на них. Старец говорил с ними резко и строго. В конце концов он сказал им то, что они хотели услышать. Это было похоже на ситуацию, когда больной приходит к врачу и говорит ему:
– У меня кашель!
А врач ему в ответ:
– Это у вас не кашель. Думаю, что это опухоль. Вы об этом не задумывались?
Врач не прописал больному сироп от кашля и не сказал ему:
– Идите домой и поправляйтесь!
Он увидел глубинную причину болезни своего пациента.
Вспоминаю и другой случай, когда я плыл на пароме из Неа Скити в Дафни. С нами еще плыли один немец – преподаватель философии – и старец Феоклит Дионисийский. Он поднялся на паром и сел, я сел возле него, и мы разговаривали. Подошел преподаватель и произнес:
– О, вы – отец Феоклит Дионисийский?
– Да!
– Я очень хотел с вами встретиться, пообщаться с вами. Задать вам вопросы, которые меня интересуют, потому что я преподаватель философии. Вы тоже философ, пишете книги…
Старец Феоклит кивал головой. Преподаватель начал задавать ему разные вопросы, не помню какие. Вместо того чтобы отвечать на них, старец Феоклит начал цитировать Акафист Пресвятой Богородице. Преподаватель задавал свои вопросы, а в ответ старец произносил: «Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя видим о Тебе, Богородице, недоумевают бо глаголати, еже како и Дева пребываеши, и родити возмогла еси…». Преподаватель удивленно смотрел на него. Я сказал себе:
– Наверное, он сейчас думает, что старец Феоклит сумасшедший.
В сущности к чему сводился весь этот разговор преподавателя со старцем Феоклитом? Он сводился к одному общему вопросу, хотя преподаватель и не задал его старцу. А вопрос был такой. Что возмущало его в Церкви? Его возмущал факт преодоления в Церкви логических и естественных законов в ситуации с Пресвятой Богородицей, то есть как Пресвятая Богородица родила Христа и вся эта тайна.

Так что когда мы идем в церковь к духовнику и хотим спросить его о чем-то, то, естественно, мы это делаем во имя Христа и с молитвой, и мы должны быть готовы принять эти слова. То есть принять их не рабски, а услышать слова, которые говорит духовник. Потому что очень вероятно, что мы что-то спросим у духовника и будем ожидать ответа, но ответа не получим или получим такой, какого не ждали услышать, но на самом деле нам был нужен именно такой ответ. Во всяком случае это факт, что Церковь, то есть слово Божие, рожденное в человеке, рождается в тайне. В этой тайне вопроса во имя Христа оно главным образом направлено в центр человека, в его сердце, и оно исцеляет всего человека глубинно, а не поверхностно и уничтожает корень зла, откуда исходит все плохое.
Этот взгляд на Церковь как на духовную лечебницу приводит нас к твердой позиции по отношению к Церкви и ко всему тому, что сказал нам Христос, потому что Он говорил как врач, а не этическими категориями; Он не говорил ни этическими, ни философскими, ни идеологическими категориями. Он говорил чисто медицинскими категориями и дал человеку медицинское предписание, на основании которого человек мог восстановить свое духовное здоровье и перейти к обожению. Поэтому правда – это то, что отсутствует в нас.
Блаженны изгнанные за правду. Блаженны гонимые, но не из-за какой-то правды этого мира, потому что вы должны знать, что правда никогда не будет властвовать в этом мире, это утопия, этого никогда не произойдет. Если даже все мы, сейчас живущие на земле, все семь миллиардов человек решим подписать контракт, что станем очень хорошими людьми и устраним всякую форму неправды. Может быть, это звучит утопично, но мы сможем это сделать. Однако молодежь, которая родится после нас, свободно выберет зло и неправду, которая часто приходит не от злонамеренности, а из-за того, что все так запутано, так сложно, что человек не может найти корень зла.
Правда – это духовное понятие. Изгнанные за правду – это люди, которые борются в этой жизни, чтобы обрести благодать Святого Духа, и до тех пор, пока они борются, они подвергаются гонениям. Это не всегда означает, что есть кто-то, кто нас преследует. Хотя и в наши дни были и есть такие братья. Большинство Православных Церквей еще не так давно подвергались гонениям и даже жестоким мучениям. В странах Восточной Европы есть великие мученики, достойные восхищения. Тысячи мучеников. Но допустим, у нас сейчас нет этой формы мученичества. В прошлом в нашей стране, когда турки или латиняне были на наших землях, у нас были проблемы, были мученики, гонения, притеснения. Теперь мы свободны. Значит ли это, что для нас Христово блаженство потеряло свою силу? Нет. Это не связано с внешними гонениями. Когда человек подвизается и борется со своими страстями, он проживает скорбь, и это факт. Это совлечение ветхого человека, и когда мы говорим «совлечение», то имеем в виду именно то, о чем пишет апостол: «совлечение ветхого человека». Это означает, что я абсолютно все с себя снимаю. И совлечение страстей, совлечение ветхого человека – это не легкое, а очень трудное дело, словно ты сдираешь с самого себя кожу, и иногда это так тяжело сделать, что человек это делает со слезами и с большой скорбью.
«Изгнанные за правду» – это те, кто борется, чтобы обрести благодать Святого Духа. Ибо в этой борьбе испытываешь многие скорби
В буквальном смысле слово «скорблю» означает, что я морально себя разваливаю. Человек с настоящей скорбью должен пройти через эту стадию для того, чтобы совлечь с себя ветхого человека. Святые отцы даже дают пример со змеей: когда змея сбрасывает свою старую кожу, она проходит через очень узкое отверстие между камнями, которые почти ее расплющивают. И она делает это лишь для того, чтобы снять свою старую кожу и остаться с новой. Это потребность ее природы. Подобным образом человек скорбит и грустит, заставляя себя пройти по этому узкому пути и совлечь с себя ветхого человека. В этом смысле Христос говорит, что Он путь, ведущий в Царствие Божие, Путь узкий и скорбный. Это не означает, что Господь хочет, чтобы мы мучились или стали бы мазохистами, которым нравится страдать. Мы с этим не имеем ничего общего. Мы любим свое «я», уважаем его, заботимся о нем, но страсти – это то, что мы не хотим иметь.
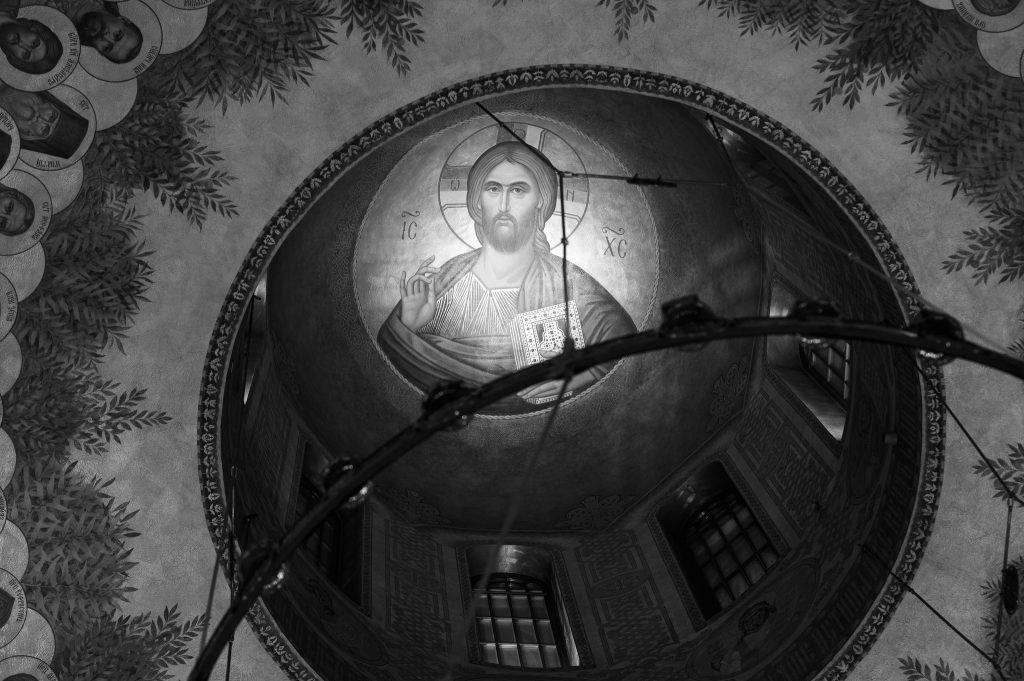
В Патерике есть рассказ об авве Пимене, который сделал то, что было для египетских монахов-отшельников того времени заботой о комфорте. Сегодня это назвали бы большой роскошью. Что он сделал? Он помыл себе ноги. И вот некто пришел к нему и сказал:
– Авва Пимен, ты подвижник, почему ты это сделал? Ты помыл себе ноги! Что это такое? Это недопустимо!
Авва Пимен любезно отвечал ему:
Авва Пимен любезно отвечал ему: «Мы убийцы не тел, но страстей!»
– Мы убийцы не тел, но страстей!
Мы не убиваем наши тела, Церковь убивает не человеческое тело, а страсти, и, убивая страсти, она освящает тело. Тело освящается и снова обретает свою истинную ценность. В Церкви прославляется тело. Только Православная Церковь прославляет тела святых. Что такое святые мощи? Это доказательство прославления тела святых, потому что их тела становятся обожествленными, не только их души, но и их тела. Все их части тела без исключения. Не бывает, чтобы одни части тела были освященными, а другие греховными. Весь человек становится святым, освящается, обожается и становится членом Христа и храмом Святого Духа. Когда человек умирает и его душа отделяется от тела, именно тело остается храмом Святого Духа, поэтому мы принимаем мощи святых, поклоняемся им, прикладываемся к ним, а они творят чудеса. Вот почему течет миро от мощей святых, и они благоухают, чудотворят, исцеляют страсти и так далее. Церковь освящает всего человека, освящает человеческое тело, освящает природу, творение, все бытие.
Он не лечит только одну часть тела, один телесный член, но поражает страсти, умеет отделить в человеке естественное от противоестественного, от того, что он воспринял с грехопадением. Таким образом, в этом лечебном процессе, который нам передали Христос, апостолы и святые, совершается исцеление. И внешне это кажется трудным, особенно вначале воспринимается как очень трудный процесс. Но это не так, нам только кажется, что это трудный процесс. Хотя тесен и скорбен путь к спасению, – говорит Христос, – а путь к погибели – широк.
К сожалению, после грехопадения наша природа «заболела» сластолюбием, потому что человек перенаправил свое стремление от Бога к творению, попирая Божию заповедь. Сластолюбие вошло в нашу природу, а противоядием сластолюбия является усердие, то есть труд и борьба. Вот тайна духовной жизни. Поначалу духовная жизнь кажется рабством, чем-то трудным, угнетающим, и она приводит к таким явлениям, которые нас огорчают. Например, ты оказываешься в определенной ситуации и вынуждаешь себя сохранить свою совесть, не растоптать ее и потому становишься объектом насмешек, издевок, и тысячу неприятных для тебя вещей могут совершить с тобой окружающие тебя люди. Это определенно является для тебя скорбью и трудностью. Ты стараешься сохранить свою совесть и отказываешься подчиняться страстям. Это очень-очень-очень трудное дело. Страсти бывают не только плотскими, есть разнообразные страсти, которые душат нас, и в каждом возрасте есть свои страсти – эти разновидности скорби. Но когда кто-то сопротивляется им, то его душа, как это ни парадоксально, чувствует свободу, огромную свободу, которую рождает эта война со страстями. Когда человек вкусит эту свободу и понимает, что значит быть свободным, дышит этим Божиим кислородом, тогда он постигает то, что раньше ему казалось непостижимым. Поэтому когда кто-то хочет войти в Церковь, мы не должны начинать со слов, каким должен быть христианин, чего следует избегать, то есть не должны говорить человеку:
Когда сопротивляешься страстям, душа чувствует свободу. Огромную свободу!
– Если ты хочешь стать христианином, то ты должен начать молиться, поститься, ходить в церковь, не иметь плотских отношений, не делать то, то и то…
Так ты, конечно же, сразу убьешь в нем желание стать христианином. Его охватит ужас, он не выдержит, выйдет из храма и скажет:
– Что это такое? Кто может все это сделать? Может ли кто-то в наше время не иметь или отвергать сексуальные отношения?!
Сегодня сексуальные отношения – это божество. Самое большое божество в мире. Куда ни повернете голову, везде увидите его, увидите на афишах, на которых оно рекламируется. На всем, на чем только можно себе представить: на автомобильных шинах, на упаковках для макарон, на мыле, на туалетной бумаге, на космических кораблях, на самолетах, в туристических буклетах. Вот так рекламируется это божество. Что общего имеют автомобильные шины с сексуальными отношениями? Просто какие-то невероятные комбинации! К сожалению, вот так это божество рекламируется в наши дни, даже здесь, на Кипре, и в Греции. Я не знаю, как обстоят дела с этим божеством в Европе. Но я слышал, что там оно очень востребовано. Там почти полное отсутствие контроля за транслированием по телевидению передач и фильмов сексуального характера и с непристойным содержанием. Это страшное дело, это похоже на огненную бурю. Кто может спастись от этого? Как сказано в Евангелии: «Кто может спастись?» И действительно, кто может спастись?
Представьте себе, что у вас есть дети, которым по 12, 13, 15 лет, и они смотрят такое по телевизору, их фантазия разжигается, грех начинает блестеть, как яблоки, которые перед продажей натирают до блеска, чтобы покупатели думали, что эти яблоки очень сладкие, хотя их следует выбросить. Грех прокрадывается в человека, когда он рекламируется через СМИ. Я такого никогда не видел, а точнее видел только один раз – на Афоне. Когда я такое видел на Афоне? Ведь даже когда я был студентом, я такого не видел. Так вот, на Афоне я был гостиничим и отвечал за расселение паломников по кельям.
Один иностранец, естественно, из лучших побуждений, оставил под подушкой открытый журнал с непристойным содержанием. Оставил его и ушел. Мы пошли убираться в келье, где он ночевал. Когда подняли простыни и подушки, то нашли этот журнал, точнее я нашел его. Пять минут я не понимал, что это такое, смотрел на журнал и не понимал. Не мог понять, что вижу в журнале. А когда понял, сказал себе:
– Ты только посмотри, что происходит! Этот паломник приехал на Афон, в монастырь и привез с собой такой журнал. Он и дня не может прожить, если не посмотрит журнал с непристойным содержанием. Затем он пойдет исповедать этот грех.
К счастью, Господь уберег меня от этого соблазна и я никогда не искушался смотреть такие журналы. А тогда я сказал себе:
– Представь, что происходит с душой человека, который смотрит журналы с таким содержанием!
Дети мои, это нечто страшное!
Не знаю, понимаете ли вы, что я вам говорю, но по крайней мере у вас есть возможность послушать мою беседу, послушать меня, незадачливого. Я ведь не обычное «явление», потому что я стою за людьми и могу сказать вам кое-что, что сегодня является необычным явлением.
К сожалению, у меня один недостаток: на исповеди я расспрашивал людей. A точнее – я спрашивал людей, которые в первый раз в своей жизни приходили на исповедь, об их грехах и говорили мне:
– Владыка, спрашивайте нас! Спрашивайте нас о наших грехах: так вы поможете нам правильно исповедаться!
Ну о чем на исповеди можно спрашивать человека? Это не такое простое дело – спрашивать человека о его грехах. Кто-то может сказать:
– Ты только посмотри на него! И о чем он думает!
Ты должен спросить, но не прямолинейно, а наводящими вопросами. Да, вы не смейтесь, потому что однажды ко мне на исповедь пришла простодушная пожилая женщина, которая сказала мне:
– Батюшка, спрашивайте меня, спрашивайте меня о моих согрешениях!
Ну, я и спросил ее:
– Были ли у вас любовные отношения с другими мужчинами, кроме вашего мужа?
– Что-о-о?! – возмутилась женщина и чуть ли не набросилась на меня с кулаками. – Как вы смеете об этом спрашивать? Как вы могли подумать, что я способна совершить такой грех?!
Как-то на исповеди я спросил одного человека:
– Были ли у вас любовные отношения с другим человеком?
– С мужчиной? Нет, – отвечал он. – Только с женщинами!
А еще я спросил его:
– Вы осторожны?
– Да, осторожны.
Спустя некоторое время этот человек снова пришел ко мне на исповедь, и я задал ему тот же вопрос:
– Вы осторожны?
– Разумеется, осторожны.
То есть он соблюдал меры предосторожности, чтобы его партнерша не зачала ребенка! У него были интимные отношения с девушкой, и они позаботились о том, чтобы она не забеременела. Но, задавая этот вопрос, я имел в виду совсем другое: чтобы у них не было добрачных отношений и так далее. Сегодня слова приобрели другое значение. Тот же вопрос я задал и другому человеку:
– Вы осторожны?
– Разумеется! Мы принимаем все меры предосторожности и очень внимательны!
Почему так происходит? Потому что, дети мои, критерии уже притуплены. Вот маленький ребенок, но в нем уже есть что-то другое, потому что он пережил атаку на душу и это изменило его душевную сущность. И естественно, затем меняются и отношения с окружающим миром.

Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. В качестве противоядия от сластолюбия нашей природе дан именно труд. Однако разве вас не впечатляет, что Христос призывает вас подойти ближе к Нему, хочет вас привлечь к Себе, чтобы вы стали Его последователями? И прекрасно, что Евангелие, слово Божие является тем, что привлекает нас. Мы говорим, что церковная проповедь должна привлекать людей. Тем не менее мы видим, что Христос и Церковь привлекают нас, обещая вот что: «Блаженны вы, когда вас преследуют именно из-за духовной жизни; когда вы проживаете эту скорбь, эти тяготы, весь этот труд – тогда вы блаженны». Как ты найдешь последователей, если обещаешь им скорби?
(Окончание следует.)
Перевел с болгарского Виталий Чеботар
Сайт храма святого царя Бориса в Варне (Болгария)
Благодать вам и мир от нашего Господа Иисуса Христа!Я приветствую вас в нашей рубрике «Ежедневное слово для духовного укрепления»!Вчера мы с вами говорили о том, что значит «стать на свою стражу». В духовном смысле «стать на свою стражу» означает создать атмосферу, в которой нет помех для того, чтобы слышать голос Божий. Мы говорили о том, что Аввакум стоял на страже, потому что хотел слышать от Бога, и он услышал.Иоанн был в духе и поднялся выше, и ему было дано откровение от Бога.Даниил и его друзья уединились для молитвы, и Бог открыл им в ночном видении тайну, которая спасла их от гибели.
«И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога небесного. И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение разумным; он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя». (Даниил 2:19-23).
Если вы хотите услышать Божий голос, тогда вы должны быть готовы заплатить цену за уединение с Богом. После того, как Господь призвал Павла, он провел три года в уединении с Богом в Аравии, принимая от Него откровения.
“Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать». (Галат. 1:15-18).
Отделение себя для Бога выгодно нам самим. Но, вы не сможете услышать голос Божий, если вы проводите все свое время, бродя только по “земным местам”. Нужно подняться выше для того, чтобы иметь доступ к сердцу Бога и Его мудрости.Итак, встаёте ли вы на свою стражу? Делаете ли вы всё для того, чтобы Бог мог говорить с вами? Создаёте ли вы атмосферу, которая позволяет вам быть чувствительным к голосу Духа Святого? Находите ли вы время для уединения с Богом?Бог будет общаться с вами и открывать Своё сердце, если вы приготовите для Него своё сердце.Примите прямо сейчас благодать от Бога для того, чтобы иметь силу отделить себя для Бога, чтобы подниматься выше и чтобы получить доступ к Божественным инструкциям, которые снарядят вас для великих подвигов в Боге.Мы с вами говорили уже о том, что Бог открывает свои тайны богобоязненным людям, которые любят Бога. Также Бог открывает Свои тайны тем людям, которые стоят на своей страже. Кроме этого, Бог открывает Свои тайны тем, кто искренне задаёт Ему вопросы.Читая пророческие книги в Библии, можно заметить, что Божьи пророки постоянно что-то видели и часто задавали Богу вопросы. Пророки задавали такие вопросы: «Что это? Куда надо идти? Когда это произойдёт? Как это будет происходить? Что это значит?»Например, после того, как Даниилу были показаны пророческие видения, он обращался к Богу с вопросами о значении увиденного.
«Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною, и объяснил мне смысл сказанного».(Даниил 7:16).
После этого вопроса Даниил получил интерпретацию своих видений, благодаря чему он мог понять, как практически применять эти видения.Нечто похожее случилось и с пророком Захарией после того, как он увидел в видении мужа, у которого в руке была землемерная вервь. Пророк Захария спросил: «Куда ты идешь?», и он получил ответ на свой вопрос, а также интерпретацию своего видения.
«И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его» (Захария 2:1-2) .
Люди, которые не задают вопросов, не получат и ответов, а также не узнают ничего нового. Для того, чтобы двигаться в планах Божьих, необходимо постоянно задавать Богу вопросы.Задаёте ли вы Богу вопросы относительно своей жизненной цели и поручения? Если нет, тогда начните это делать с сегодняшнего дня. Задавайте Богу трудные для вас вопросы относительно своей жизни, потому что для Него нет ничего трудного. И тогда вы удивитесь тому, как Он будет направлять ваши стези.Обильных вам Божьих благословений!Пастор Руфус Аджибойе








