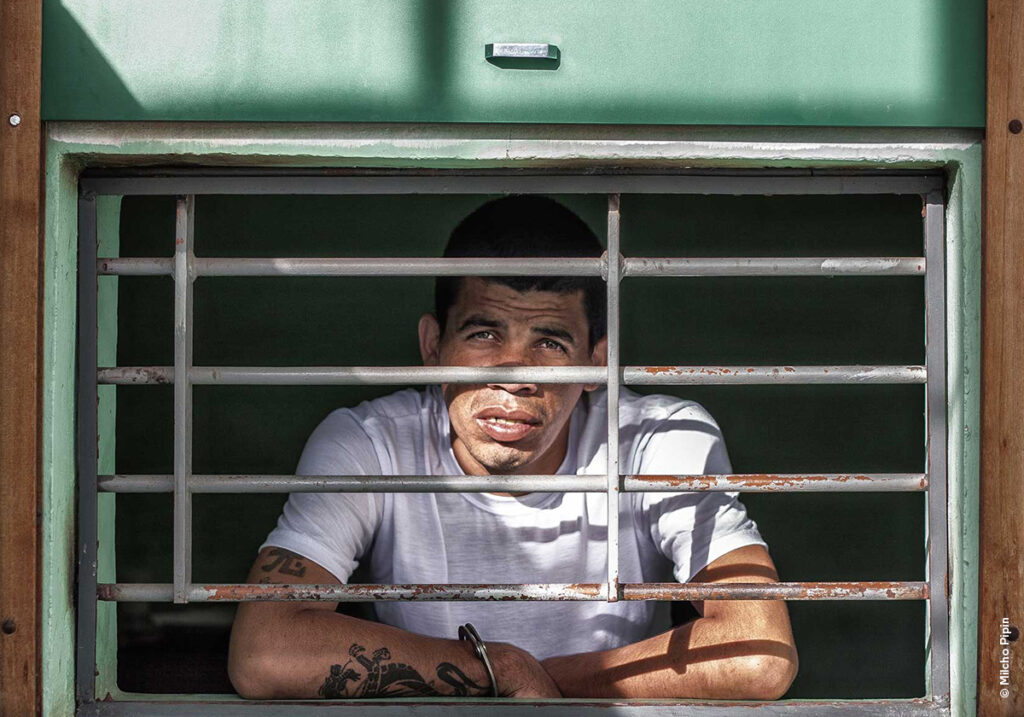В 2010 году журналисты The Guardian подсчитали, во сколько Великобритании обходятся тюрьмы. С 2000-го расходы на систему исполнения наказаний выросли с 2% до 2,5% ВВП страны. Содержание одного заключенного стоит казне 41 000 фунтов стерлингов в год. Комитет по вопросам правосудия предупреждает: если правительство будет настаивать на своем плане расширения пенитенциарной системы, ему придется в ближайшие 35 лет дополнительно изыскать 4,2 млрд фунтов стерлингов.
Читайте также
Исправляя «исправленных»: почему лишение свободы не решает проблему преступности и что с этим делать
Предназначение тюрьмы — предотвращать будущие преступления — также разбивается статистикой.
Тюрьма не спасает от рецидивов: 47% совершеннолетних правонарушителей в Великобритании совершают новое преступление в течение года после освобождения.
Для осужденных, отбывающих срок менее года за преступления небольшой тяжести, этот показатель возрастает до 60%. Среди лишенных свободы детей и подростков показатели достигают 75%. Рецидивы со стороны бывших заключенных ежегодно обходятся стране в 11 млрд фунтов стерлингов.
Тюрьма собирает вместе людей, которые способны, находясь в заключении, самоорганизоваться для будущих преступлений. Француз алжирского происхождения Мухаммед Мера два года пробыл в заключении за вооруженный грабеж. В тюрьме он познакомился с радикальными исламистами. Отбыв наказание, Мера совершил нападение на французских военных и еврейскую школу.
Эксперт по криминологии Франсуа О в интервью журналу «Атлантико» рассказывал, что случай Мухаммеда Мера не исключительный. После ряда взрывов, совершенных в 1995 году, Сафе Бурада, отбывая наказание в тюрьме, смог убедить ряд других заключенных примкнуть к нему. Прямо в тюрьме ему удалось организовать группу последователей для совершения терактов, причем некоторые из них даже не были мусульманами. Есть пример Абу аль-Заркауи, который до попадания в тюрьму считался неправедным мусульманином из-за алкоголизма. Как и Мера, радикалом он стал уже в тюрьме, а через несколько лет даже сделался главой «Аль-Каиды» в Ираке.
Ошибочно думать, что проблема в исламе. Франсуа О отмечает, что объединение в тюрьме характерно для представителей любых национальностей и религий — это служит способом самозащиты.
Кроме того, концепт тюрьмы смешивает вместе осознанных преступников и действовавших в состоянии аффекта.
Из-за этого люди, которые не имеют криминальных наклонностей и вряд ли бы совершили повторное правонарушение, попадают в среду, которая переплавляет их в полноценных преступников. Таким образом, тюрьма не только не уменьшает количества возможных преступлений, но и может увеличивать их число.
Система правосудия абсолютно обезличена, и это касается не только отношения к нарушителям. Размер наказания измеряется степенью вреда, нанесенного всему обществу в целом, однако про реальных жертв все забывают. Они используются как свидетели обвинения, а их нужда в моральном восстановлении остается вне поля зрения суда.
Однако непременно встает вопрос: если не тюрьма, то что? Нельзя ведь просто так отпустить преступников. Тем не менее в правовой практике разных стран есть случаи, когда за разные преступления нарушителей не сажали в тюрьму, а подвергали альтернативным формам наказания или же вовсе пытались им помочь.
Суды по наркотическим делам в Австралии: лечение вместо заключения
В австралийской системе правосудия существуют общественные исправительные учреждения. Нарушители регулярно отчитываются перед наблюдателем, которому поручено направлять преступника через образовательные программы, общественную работу и программы лечения, цель которых — исправление антисоциального мышления и поведения.
Может быть интересно
Что такое наркофобия
Для нарушителей, чьи преступления были каким-то образом связаны с употреблением психоактивных веществ, существуют отдельные drug courts — суды по делам о наркотиках, первый из них открылся в Новом Южном Уэльсе в 1999 году. Вместо уголовных сроков такие преступники получают интенсивное лечение и наблюдение.
Связь преступности и наркомании серьезнее, чем можно представить. В США, согласно исследованиям, большинство заключенных страдают от злоупотребления психоактивными веществами. 80% преступников злоупотребляют психоактивными веществами или алкоголем, в то время как почти 50% имеют зависимость. После выхода из тюрьмы от 60% до 80% наркопотребителей совершают новые преступления.
Читайте также
Наркополитика по-берлински. Как живут наркопотребители в столице Германии
Наркосуды в Австралии основываются на принципе, что с правонарушителями лучше иметь дело не на карательной основе, а на терапевтической. Такой подход применяется выборочно — например, к несовершеннолетним преступникам, чьи личные проблемы рассматриваются как причина нарушения закона. И суды решают, что вместо заключения под стражу правильнее будет разобраться с этими личными проблемами.
В таких судах обвинение и защита не противостоят друг другу, а работают вместе для составления удачной программы лечения.
Судья же выступает практически как личный психолог: постоянно общается с нарушителем на стадии лечения, реагирует на его обращения и разбирается в обстоятельствах его жизни, чтобы при лечении были учтены все факторы стресса. Правда, такой режим оказался неэффективным для более «тяжелых» преступников, которые были напряжены из-за постоянного контроля и провоцировали новые юридические проблемы.
В штате Западная Австралия суд по делам о наркотиках разработал три программы, нацеленные на разные категории лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами. «Режим кратковременного вмешательства» предназначен для обучения людей с незначительными обвинениями, связанными с каннабисом. «Режим контролируемого лечения» — для несовершеннолетних правонарушителей, злоупотреблявших психоактивными веществами. Возможность тюремного заключения грозила только постоянным рецидивистам за нарушения условий лечения. Более жесткий вариант действовал в штате Виктория. Там суды предлагали двухгодовую программу лечения от наркозависимости, однако за любое отклонение от нее пациент отправлялся в тюрьму.
Программы лечения, конечно, были далеко несовершенны и в каждом штате работали по-разному. В той же Западной Австралии пациенты жаловались на отсутствие безопасных центров детоксикации с доступом к психиатрическим услугам, длинный лист ожидания, нехватку реабилитационных услуг и отсутствие средств детоксикации, которые подходили бы для аборигенов. В других штатах жаловались на отсутствие помощи от соцработников или конфликты между лечением и юридической сферой.
Суды в Виктории и Квинсленде осуществляли аналогичный надзор за преступниками с алкоголизмом, однако в других штатах одну зависимость отделяли от другой. Дело тут в ориентации скорее на общественное мнение, чем на желание помочь определенной группе людей. Суды по психоактивным веществам пользовались популярностью, потому что фокусировали внимание на тех средствах, которые, по мнению многих, связаны с большей степенью зависимости. В топе для Австралии был героин.
Вера в то, что люди с героиновой зависимостью «нуждаются в лечении», потому что именно зависимость «заставляет» наркомана совершать преступления, была так распространена в обществе, что суды следовали за мнением большинства и при этом оставались на слуху.
Оценить эффективность таких судов оказалось сложно. Например, суд помогает избавиться от наркозависимости человеку, впервые в жизни совершившему мелкое нарушение — украл телевизор, например. За контрольный срок в два года рецидива не произошло. Есть ли в этом конкретный эффект от суда? Ведь часть подобных «преступников» обычно отфильтровывается сама и «ошибка молодости» в действительности оказывается случайностью.
Тем не менее, согласно экспертным оценкам, суды по делам о наркотиках показали свою эффективность: преступники получили доступ к лечению, масштаб наркозависимости в целом был сокращен, а суды, врачи и соцработники начали работать вместе. И главный эффект — показатели преступности сократились, а расходы на тюремную систему уменьшились.
Восстановительное правосудие: как примирить жертву и обидчика
Международные исследования доказывают, что большинство пострадавших, кроме некоторых жертв особо тяжких преступлений, больше заинтересованы в возмещении ущерба, чем в суровом наказании преступника. Однако во многих случаях реакция государства на преступление никак не затрагивает интересы жертвы. Восстановительное правосудие сосредотачивается на возмещении вреда, нанесенного преступлением, возвращении преступника в общество и предоставлении всем сторонам процесса — преступнику, жертве и обществу — возможности напрямую участвовать в осуществлении правосудия.
Может быть интересно
Любовь, смерть и купола: о чем говорит русский шансон
Восстановительное правосудие, или виктимология — это встреча лицом к лицу жертвы преступления и человека, его совершившего, процесс, посредством которого стороны, вовлеченные в конкретное правонарушение, совместно решают, как справиться с его тяжелыми последствиями в настоящем и в будущем.
Виктимология опирается на принцип «поскольку преступления ранят, то правосудие должно исцелять». Помогает ей механизм медиации — метод урегулирования конфликтов посредством третьей стороны. Медиатор должен сочетать в себе черты социолога и психотерапевта и при этом не навязывать собственные идеи конфликтующим. В виктимологии медиаторам иногда даже запрещают вносить свои предложения, чтобы итог работы был волей только участников конфликта. До применения в системе правосудия медиация была успешно опробована для решения проблем, связанных с насилием, в школах и семьях и даже для разрешения военных конфликтов.
Используя сценарий, медиаторы помогают выстроить диалог между сторонами. Скрипт обычно содержит подобные формы:
Что случилось, когда…?
О чем вы думали, когда…?
Что вы почувствовали, когда…?
Кто страдает от причиненного вреда…?
Что вам нужно сделать сейчас?
В Норвегии все муниципалитеты предоставляют услуги медиации, которая может быть использована в виде альтернативы наказания или его части. В последние годы количество дел, переданных в службы медиации, постоянно растет.
Пилотный проект был запущен в 2006 году на базе службы медиации Сёр-Трёнделага. Команды из представителей различных органов и институтов (полиция, органы опеки и попечительства, здравоохранение, школьное образование и исправительные учреждения) обеспечивают постоянное наблюдение за молодыми правонарушителями, систематически совершающими серьезные преступления.
В виктимологии наибольшую эффективность показал метод, при котором медиатор работает не только с преступником и жертвой, но и с их семьями.
Исследователи Мовен и Вишер выяснили интересный факт. Если семье не нужно пробивать бюрократические барьеры, чтобы добиться свидания с родственником в тюрьме, и она может видеть его в менее тягостной обстановке, то семья намного лучше принимает провинившегося, что играет огромную роль в принятии вины и социальном восстановлении.
Прощение в Древнем Вавилоне и исламском суде
Один из аспектов виктимологии — реституция, то есть возмещение жертве ущерба. Ее корни уходят глубоко в прошлое. Например, кодекс Хаммурапи, созданный около 1700 года до н. э., является одним из старейших дошедших до нас письменных сводов законов. В нем, кроме суровых наказаний, описывается ряд правил возмещения ущерба жертве в случае кражи, телесных повреждений и даже убийства.
203. Если свободный ударит по щеке свободного одинакового положения, то обязан уплатить мину серебра.
204. Если вольноотпущенник ударит по щеке вольноотпущенника, то обязан уплатить десять сиклей серебра. <…>
209. Если кто-нибудь, ударив свободную, причинит выкидыш ее плода, то должен уплатить за ее плод десять сиклей серебра.
Похожие примеры встречаются в античной и мусульманской практиках, в Библии и Салической правде франков. Исторически, вплоть до Средневековья, восстановление общественного мира при помощи реституции было основным содержанием законов и правосудия, а решение конфликтов имело более личностный характер. Лишь с установлением авторитарной власти правосудие полностью перешло в ее руки, а иногда и лично к монарху.
Правосудие стало способом разделять и подавлять, а не решать проблемы. А еще источником дохода — в конце эпохи франков штрафы за преступление в пользу государства стали основной формой наказания, причем выплачивались они в руки судье. Ущерб потерпевшего оставался его личной проблемой. Для государства это оказалось такой удачей, что от этой практики не избавились до сих пор.
Принципы примирительного правосудия исторически присутствовали и в мусульманских странах.
Основной акцент исламское право делает на человеческом достоинстве и таких ценностях сообщества единоверцев, как прощение, милость, покаяние, уважение к человеку, что рассматривается как смысл современной виктимологии. Как и во многих других традиционных обществах, преступление расценивается как забвение ответственности человека перед обществом и Богом, поэтому юридический ответ на него должен удовлетворить обе эти стороны.
Во всех правовых традициях ислама преступления делились на три категории: хадд, кисас и тазир. Категория хадд включает в себя кражу, супружескую измену, клевету, употребление алкоголя, разбой, мятеж и вероотступничество, но не включает убийство. Эти преступления считаются самыми тяжкими, поскольку наносят ущерб не только отдельным людям, но и всему религиозному сообществу, Богу и общественному правопорядку. Поэтому в религиозных текстах указываются конкретные наказания за эти деяния, например, смерть через побивание камнями за супружескую измену или отрубание руки за воровство. В этой категории преступлений мнение потерпевших практически не играет роли.
По-иному обстоит процедура в категории кисас, которая применяется в случае убийства или физического нападения. Кисас не имеет конкретных наказаний. Инициировать процесс всегда должны потерпевшие и их семьи, чьи голоса будут иметь решающее значение. В Иране судья не имеет права выносить решение по делу кисас без совещания с потерпевшими. Его роль в процессе включает также обязанности медиатора.
Для жертв и их семей существует несколько возможностей. Они могут объявить о полном прощении без наказания. Чаще проводятся переговоры о компенсации (дийя), которую можно считать аналогом современных форм реституции, символизирующих раскаяние преступника. Также на обвиняемом висит вира — плата для предотвращения кровной мести, однако если денег у обвиняемого нет, то ее выплачивают родственники или государство. Впрочем, пострадавшие могут потребовать и смертной казни, так что говорить о восстановительном правосудии получается от случая к случаю.
Читайте также
Конечная — отель «Нирвана». Таймлайн жизни Тимоти Лири
В преступлениях тазир применяется другой принцип гуманизации. В Коране тазир представлены как грехи: это злоупотребление доверием, растрата, лжесвидетельство. Однако наказания за них не описаны, а оставлены на усмотрение должностных лиц. Наказания за них самые мягкие, поэтому здесь возможен учет мнения потерпевшего.
Полное избавление от тюрем пока нигде не реализовано, а большинство существующих методов (вроде drug courts или штрафов за финансовые преступления вместо тюремного заключения) имеют ограниченную применимость. Так что усилия ученых и интеллектуалов, стремящихся к менее жестокому обществу, точно стоит направить в это русло.
Вопрос хороший, но ответить на него не просто. Человек ведь попадает в тюрьму по разным причинам ,преступники, в большинстве своём, больные люди. У кого-то органическое поражение нервной системы, кто-то наркоман, кто-то алкоголик. И если органики, при соответствующем лечении,смогут устроиться в жизни, то с алкоголиками и наркоманами дело сложнее. Даже если при освобождении такие люди выходят с благими намерениями поменять свою жизнь, то сразу упираются в стену равнодушия и многочисленных проблем. Им сложно найти работу,а без этого не на что жить, оплачивать коммуналку, одеваться, питаться, лечиться и т.д. От безысходности они снова начинают пить, находят компанию подобных себе, и всё начинается сначала.
Другое дело, если у человека надёжный тыл, если его, даже такого оступившегося ,дома любят и ждут,а пока он в местах лишения, ездят к нему на свидания, помогают и верят в него. Если в него верят, то человек и сам начинает верить в себя, у него есть с чем сравнивать: вот они, нормальные, любящие люди — его близкие, а вот, рядом — мир, пропитанный злом и жестокостью. Если человек не до конца испорчен,а я пишу именно о тех, кто ещё не совсем скатился на дно, он потянется, конечно , к добру.Жаль, что не разрешаются сотовые телефоны(предвижу возмущение).Но иногда человеку необходимо услышать родной голос, просто поговорить с человеком, несущим положительную энергетику,уйти на время от преступного окружения хотя бы через этот мостик. Есть ведь время подумать о своих ошибках, а поделиться планами на будущее,высказаться , помечтать — не с кем.Самое сложное наступает, когда такой человек возвращается домой. После недолгой эйфории наступает период адаптации, и здесь помощь близких особенно необходима:помочь и поддержать на первых порах, одеть, попытаться через знакомых устроить его на работу. Государство наше, к сожалению, совершенно «забило» на этих людей, оно и на добропорядочных-то забило.
Отвечая одной фразой на Ваш вопрос,скажу: человека, особенно впервые совершившего преступление, исправить можно, если рядом с ним надёжный тыл, понимающие и помогающие люди , и если этот человек с их помощью осознал и пожалел о своём прошлом ,если он уверен в том,что когда у него такая семья,не всё в его жизни потеряно.Здесь всё ещё зависит от того , кто — кого: семья перетянет или зэки.
Правосудие и правоохранительная деятельность в евразийском пространстве
Минязева Т.Ф., Добряков Д.А.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЁННОГО (ПРЕСТУПНИКА) КАК цЕЛь НАКАЗАНИЯ
цель: Анализ цели исправления осуждённого в уголовном и уголовно-исполнительном праве. Методология: В статье использованы метод анализа, сравнительный, историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В данной статье высказывается мнение о целесообразности исключения из текста ч. 2 ст. 43 УК РФ и ч. 1 ст. 1 УИК РФ такой цели наказания, как исправление осужденного (преступника), как недостижимой в условиях существующей системы исполнения наказания, а также по сути своей избыточной.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определённую научную ценность, поскольку в ней аргументируется позиция авторов о целях наказания, отличная от действующего законодательства, и содержатся предложения по его (законодательства) совершенствованию.
Ключевые слова: цель наказания, исправление осужденного (преступника), уголовное наказание, уголовный закон.
Minyazeva T.F., Dobryakov D.A.
REFORMING A CONVICTED PERSON (CRIMINAL) AS THE PuRPOSE OF PuNISHMENT
Purpose: The analysis of the purpose of reforming a convicted person in the criminal and criminal executive law.
Methodology: Method of analysis, comparative, historical-legal and formal-legal methods were used in the article.
Results: This article suggests the desirability of excluding from the text of part 2 of article 43 of the Criminal code of the Russian Federation and part 1 of article 1 of the Criminal executive code of the Russian Federation such purpose of punishment as the reforming (correction) of offenders (criminals) as unattainable under the existing penal system and inherently redundant.
Novelty/originality/value: The article has a certain scientific value, as it is argued position of the authors about the purposes of punishment, which is different from the current legislation, and includes suggestions for its (legislation) improvement.
Keywords: purpose of punishment, reforming a convicted person (criminal), criminal punishment, criminal (penal) statute.
В научной и учебной литературе отмечается, что вопрос о целях наказания является одним из самых спорных и стабильно привлекает внимание юристов-теоретиков. В ходе возникающей в этой связи дискуссии высказываются самые различные, зачастую полярные мнения, к наиболее радикальным из которых можно отнести, например, предложение вовсе отказаться от уголовно-правовой категории «цели наказания», заменив её «социальными функциями», поскольку они, функции, точнее отражают действительную роль уголовного наказания [1, с. 474-477]. Избегая выражения мнения по поводу других взглядов на проблему, уместно отметить, что в рамках данной статьи речь пойдёт не о целях наказания в их совокупности, месте и роли этих целей в уголовном праве, не о разнообразии взглядов и идей по данному поводу (хотя и их тоже придётся коснуться), а лишь об одной из целей наказания, а именно об исправлении осуждённого (преступника — данное уточнение приводится, чтобы подчеркнуть
направленность воздействия именно на преступника — лицо, не только признанное судом виновным в совершении преступления и осуждённое к наказанию, но и являющееся таковым в действительности). Представляется, что исправление преступника имеет ряд особенностей, качественно отличающих его от прочих целей наказания и при этом ставящих под сомнение необходимость упоминания его в законе — как минимум в нынешнем виде.
В ч. 2 ст. 43 УК РФ установлено три цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого, предупреждение преступности. Несмотря на то, что цели наказания в уголовном законе приведены последовательно, и это может интерпретироваться как попытка законодателя выстроить определённую иерархию целей, представляется верным утверждение, что все цели наказания должны преследоваться солидарно, т. е. в равной степени при назначении каждого наказания [2, с. 191].
евразийская
> 2(21) 2016 <
адвокатура
Первая и третья цели не имеют нормативно закрепленной трактовки, а потому могут быть раскрыты широко и очень разнообразно. Некоторые из таких интерпретаций, как то кара вкупе с компенсацией для восстановления социальной справедливости и удержание от совершения преступлений за счёт эффекта устрашения для предупреждения (превенции), кажутся вполне правдоподобными, а следовательно, достижимыми. Но вторая цель наказания — исправление осуждённого, мало того, что самой своей формулировкой вызывает немало вопросов, так ещё и имеет законодательное определение, которое лишь увеличивает число этих вопросов.
Так, ч. 1 ст. 9 УИК РФ определяет исправление осуждённого как формирование у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, а также стимулирование правопо-слушного поведения. Все эти качества полагаются необходимым свидетельством утраты лицом (преступником) признака общественной опасности. В данной связи указывается, что перечисленные качества могут быть выработаны у личности в связи с применением к ней уголовного наказания [3, с. 27-28]; по крайней мере, так считает законодатель, включивший именно такую формулировку определения исправления осуждённого в закон, хотя сомнительным кажется всё, начиная с самого этого определения и заканчивая его (определения) смыслом.
Содержащееся в законе определение исправления осуждённого делает акцент на личности преступника, а не на преступлении, которое эта личность совершила (как следовало бы, ведь наказание, прежде всего, является следствием совершения преступления, а никак не следствием «преступности» какого-то лица), на формировании у лица уважительного отношения к обществу и его ценностям, а не на осознанном воздержании от совершения новых запрещённых уголовным кодексом деяний. Закон содержит норму о социальном исправлении преступника, однако оно, социальное исправление, является задачей воспитательной работы, связанной не только и не столько с назначением и исполнением наказания, сколько с деятельностью всех общественных институтов, отвечающих за социализацию личности [4, с. 82]. Более корректным здесь будет говорить о цели юридического исправления, т. е. об уже упомянутом осознанном воздержании от совершения новых преступлений, основание которого вовсе не обязательно должно быть связано с качественными изменениями в личности преступника.
Данное в ч. 1 ст. 9 УИК РФ определение исправления осуждённого близко повторяет ст. 20 УК РСФСР, где говорилось, что наказание «имеет целью исправление и перевоспитание осуждённых в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития». Помимо поправки на изменившиеся с 1960 года приоритеты (упомянуты человек и общество, ни слова о социализме), было исключено упоминание перевоспитания осуждённого, фактически подразумевающееся как часть исправления, а то и вовсе являющееся синонимичным исправлению термином (либо термином, более широким, чем исправление, и включающим в себя исправление как начальный этап процесса перевоспитания). В комментарии к УК РСФСР 1960 года (в редакции 1994 года) отмечается, что исправление и перевоспитание преступника больше относятся к процессу исполнения наказания, т. е. к области уголовно-исполнительного (исполнительно-трудового) права, а не уголовного, в рамках которого наказание отвечает скорее цели предупреждения преступности. Исполнение же наказания «влияет на психику людей и вызывает стимулы законопослушного поведения» [5, с. 69-71]. Интересно, что намеченное в советской (и ранней постсоветской) доктрине разделение цели исправления преступника на цель наказания в уголовном праве и цель исполнения наказания в уголовно-исполнительном праве встречается (и даже развивается) и в современное время. Так, например, утверждается, что цель исправления осуждённого в уголовно-исполнительном законодательстве имеет более широкое содержание, чем в уголовном, поскольку предполагает достижение совокупности юридического и социального исправления посредством полного преобразования «социально-психологического облика осуждённого» [6, с. 367-368]. Однако подобное деление кажется излишним. Уголовно-исполнительное право носит процессуальный характер по отношению к уголовному и, следовательно, призвано обеспечить (и уточнить) процедуру реализации положений уголовного закона в части наказания. Цель же исправления преступника в уголовно-исполнительном праве представляется не чем иным, как уточнением, легальной трактовкой цели исправления преступника в уголовном праве, т. е. по сути той же самой целью. Но всё это никак не исключает проблемного характера этой цели наказания, а напротив, позволяет говорить о том, что её наличие в законодательстве является отголоском ушедшей в прошлое вслед за старым уголовным законом доктрины.
EURASIAN
> 2 (21) 2016 <
ADVOCACY
Проблемный характер цели исправления преступника как цели наказания обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, можно ли всерьёз отнестись к идее полного преобразования социально-психологического облика преступника в рамках применения уголовного наказания и посредством мер уголовно-правового и уголовно-исполнительного воздействия? Вероятно, да, но лишь если говорить о комплексном воздействии на его личность, в котором наказание будет только одним из элементов воздействия, его частью и при том точно не большей. Гипотетическая же способность уголовного наказания самостоятельно справиться со столь масштабной и сложной задачей обладает чертами околонаучной фантастики, хотя даже в фантастических произведениях подобный подход к значимости наказания (и прочих репрессивных мер со стороны государства) подвергается критике. Например, в романе-антиутопии Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» есть такие строки: «…обычный преступный элемент, даже самый отпетый …, лучше всего реформировать на чисто медицинском уровне. Убрать криминальные рефлексы — и дело с концом. <.> Наказание для них ничто, сами видите» [7, с. 96]. Интересно, что изображённые английским писателем результаты альтернативного традиционному уголовному наказанию медицинского «реформирования» преступника — воздействия на личность на уровне физиологии, вовсе не предполагая какого-либо осознания преступности поведения, а равно и формирования неких приемлемых социальных установок, — оказались крайне неоднозначными. В результате даже такая крайняя и «революционная» мера фактически не привела к исправлению преступника. Сильно бы отличался итог, если бы нечто похожее происходило не на страницах художественного произведения, а в действительности? Для наглядности уместно привести данные, характеризующие реальную и более или менее актуальную ситуацию: в 2014 году было осуждено 241765 ранее судимых лиц, а точнее — лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, что составляет 33,6 % от всех осуждённых лиц (719305 лица) [8]. Вместе с тем, около 187 тысяч лиц были осуждены к лишению свободы три раза и более и содержались в местах лишения свободы в рассматриваемом году (всего же содержалось в местах лишения свободы около 665 тысяч лиц, т. е. речь идёт о 28,1 % от общего числа), при этом абсолютное значение этого показателя росло последовательно с 2012 года [9]. Можно ли сделать из этих «сухих» цифр какие-то выводы? Разве только обобщённые и выглядящие
следующим образом: доля рецидивов преступлений остаётся практически неизменно высокой (ведь треть от всех преступлений — очень весомый показатель), что выявляет недостаточную эффективность применения наказания (даже привлечения к уголовной ответственности как таковой) для цели предупреждения совершения новых преступлений (лицом, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности), а уж тем более для цели исправления преступника.
Во-вторых, реальное — юридическое — исправление по сути своей является частным (специальным) предупреждением (превенцией), а никак не какой-то самостоятельной целью наказания. Юридическое исправление лица представляет собой результат реализации цели частного предупреждения и выражается в несовершении новых преступлений вследствие рационального отказа от самой мысли об их возможном совершении. И представляется совершенно не важным, что привело к осознанному отказу лица от совершения нового преступления — некое моральное преображение личности или обыкновенный страх претерпевания негативных последствий наказания вновь. Важен сам факт отказа от совершения нового преступления, именно отказ является показателем эффективности применения уголовной репрессии, а равно и целью наказания, именуемой исправлением [10, с. 263-265], тождественной по содержанию другой цели — частному предупреждению совершения новых преступлений.
В-третьих, цели наказания должны быть реальными, т. е. достижимыми, и достижимыми всеми наказаниями в равной степени. Последнее обстоятельство особенно важно, ведь в законе нет уточнения, что формулировка цели исправления осуждённого относится только к исполнению наказаний, связанных с лишением свободы. А значит не только этот вид наказания (лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы; сюда же можно отнести частично применяемый арест), для которого более или менее детально определены средства исправления осуждённого, и точно не смертная казнь, радикально и окончательно исключающая любую возможность совершения лицом нового преступления, но и все прочие наказания, начиная со штрафа и заканчивая ограничением свободы, должны достигать целей наказания, установленных в уголовном законе. Но могут ли, например, сто пятьдесят часов обязательных работ или штраф в несколько десятков тысяч рублей развить у человека уважение к другим людям, обществу, труду, правилам и нормам человеческого общежития и т. д.? При
евразийская
этом речь идёт именно о действительном и ощутимом для лица негативном воздействии, а не о мифическом общественном порицании и прочих дополнительных факторах, лишь теоретически призванных сопутствовать наказанию. Кажется, что в данном контексте цель исправления осуждённого, одинаково определяемая для всех наказаний, недостижима и носит исключительно декларативный характер, что существенно снижает её ценность.
Наличие проблемы, а в данном случае проблемой является недостижимость и неуместная в уголовном праве (и праве вообще) чрезмерная декларативность (т. е. нереальность) исправления осуждённого как цели наказания, подразумевает поиск её решения. В качестве такого решения подходящим кажется если не полное исключение всех упоминаний об исправлении осуждённого из уголовного (из ч. 2 ст. 43 УК РФ) и уголовно-исполнительного законодательства при отождествлении юридического исправления с целью частного предупреждения совершения новых преступлений, то, как минимум, уход от формулировки ч. 1 ст. 9 УИК РФ, содержащей определение (во многом устаревшее и совершенно оторванное от реальности) социального исправления как цели исполнения наказания.
Это, на наш взгляд, заложило бы основу для изменения самого подхода к уголовному законодательству в целом и построению системы наказаний в частности, позволило бы отойти от декларативных норм, не способствующих противодействию преступности, а также послужило бы началом кардинального реформирования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
Пристатейный библиографический список
1. Уголовное право на современном этапе. Проблема преступления и наказания / под ред. Н.А. Беляева, В.К. Глистина и В.В. Орехова. СПб., 1992.
2. Адельханян Р.А. Уголовное право России. Практический курс: учебник / под общ. и науч. ред. А.В. Наумова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2010.
3. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015.
4. Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: учеб. пособ. М.: Статут, 2015.
— адвокатура
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: на-учн.-практич. комм. / под ред. Л.Л. Кругликова и Э.С. Тенчова. Ярославль: Влад, 1994.
6. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. 4-е изд., перераб. и доп. M.: Проспект, 2015.
7. Бёрджесс, Энтони. Заводной апельсин; Семя желания / пер. с англ. В.Б. Бошняка, A.A. Комаринец. M.: АСТ, 2015.
8. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. URL: www.cdep.ru/ userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_2008-2014.xls.
9. Федеральная служба государственной статистики. Число лиц, содержащихся в местах лишения свободы [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru/free_ doc/new_site/population/pravo/10-11.doc.
10. Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. M., 1973.
References (transliterated)
1. Ugolovnoe pravo na sovremennom jetape. Problema prestuplenija i nakazanija / pod red. N.A. Beljaeva, V.K. Glistina i V.V. Orehova. SPb., 1992.
2. Adel’hanjan R.A. Ugolovnoe pravo Rossii. Prak-ticheskij kurs: uchebnik / pod obshh. i nauch. red. A.V. Naumova. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Volters Kluver, 2010.
3. Kommentarij k Ugolovno-ispolnitel’nomu kodeksu Rossijskoj Federacii (postatejnyj) / A.V. Brilliantov, S.I. Kurganov; pod red. A.V. Brilliantova. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt, 2015.
4. Sundurov F.R., Talan M.V. Nakazanie v ugolovnom prave: ucheb. posob. M.: Statut, 2015.
5. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii: nauchn.-praktich. komm. / pod red. L.L. Kruglikova i Je.S. Tencho-va. Jaroslavl’: Vlad, 1994.
6. Rossijskoe ugolovnoe pravo: v 2 t. T. 1. Obshhaja chast’: uchebnik / pod red. L.V. Inogamovoj-Hegaj, V.S. Komissarova, A.I. Raroga. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt, 2015.
7. Bjordzhess, Jentoni. Zavodnoj apel’sin; Semja zhela-nija / per. s angl. V.B. Boshnjaka, A.A. Komarinec. M.: AST, 2015.
8. Sudebnyj departament pri Verhovnom Sude Ros-sijskoj Federacii. Dannye sudebnoj statistiki [Jelektron-nyj resurs]. URL: www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_ statistika/Sbornik_2008-2014.xls.
9. Federal’naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Chislo lic, soderzhashhihsja v mestah lishenija svo-body [Jelektronnyj resurs]. URL: www.gks.ru/free_doc/ new_site/population/pravo/10-11.doc.
10. Karpec I.I. Nakazanie. Social’nye, pravovye i krimi-nologicheskie problemy. M., 1973.
2 (21) 2016
В правовой доктрине наказанием считается
особая мера государственного принуждения,
сопровождающаяся лишением осужденного
определенных благ, за совершенное
преступление (Юридический энциклопедический
словарь, М., 1984, С. 181). Кара считается
синонимом наказания (Там же, С. 135). На
такой «теоретической» основе строится
процесс перевоспитания преступников.
Между тем понятия наказания, кары,
раскаяния — фундаментальные
психолого-этические проблемы, глубокая
ориентация в которых необходима каждому
юристу.
Наказание — отрицательная социальная
санкция, возникающая как следствие
допущенной индивидом или социальной
группой провинности, правового нарушения
и заключающееся в ограничении его
возможностей или понижении его (ее)
социального статуса. Не всякая мера
принуждения является наказанием и не
всякое наказание принудительно. И нет
ничего действенней самонаказания —
«угрызения совести». Различными могут
быть и цели наказания: месть, устрашение,
исправление провинившегося, превентивное
наказание в назидание другим.
В своем историческом становлении
наказание за преступление чаще всего
выступало как акт мести, устрашающего
возмездия за содеянное зло.
Однако с нравственной и пенитенциарной
точки зрения наказание как возмездие
не оправдано — месть есть воздаяние злом
за зло. Исторический опыт свидетельствует,
что ужесточение наказания, усиление
его устрашающего воздействия не приводило
к желаемым результатам. Поведением
людей нельзя управлять с помощью страха.
Человек — существо гордое и независимое.
«Преступник, восставший на общество,
ненавидит его и почти всегда считает
себя правым, а его виноватым» (Достоевский
Ф. М. Записки из мертвого дома, Сп.б.,
1894., С. 16).
Поведение человека определяется его
представлениями о выгодах и невыгодах
определенных поступков. Он склонен к
оправданию всего того, что считает
выгодным. Для этого он использует мощный
механизм оправдательной мотивации,
маскирующих мотивов. Представления тех
благ, которые он может получить, резко
снижают его способность критического
отношения к используемым при этом
средствам. И чем примитивнее психическая
организация индивида, тем меньше его
беспокоит моральная сторона используемых
им средств, тем меньше он просчитывает
вредные последствия выгодного ему (с
его точки зрения) деяния. Награды и кары
управляют поведением человека, считает
известный социолог Питирим Сорокин
(Сорокин П. Человек, цивилизация, общество,
М., 1992).
Одно и то же наказание, одна и та же
награда по-разному действуют на разных
людей. Различные награды и наказания
имеют различное мотивационное влияние
на поведение одного человека. Чем больше
данный человек нуждается в данной
награде, тем больше она определяет его
поведение. Кара также оценивается по
тому благу, которое она отнимает у
данного человека. Тюремное заключение
причиняет различные страдания различным
людям. Босяк, не имеющий крова и пищи,
страдает от тюрьмы гораздо меньше, чем
банкир, для которого тюремное заключение
означает лишение его поездок на Багамские
острова, ресторанных обедов — приятного
времяпрепровождения.
Таковы результаты всеобщей подготовленности
населения к насилию, к решению социальных
проблем грубой силой физического
принуждения.
«Стрелять их надо! Тогда будет порядок»
— нередко слышим мы из уст даже почтенных
ученых мужей — такова школа социалистического
воспитания. Чем в тюрьме им хуже, тем
обществу лучше — такова распространенная
обывательская мудрость. И тюрьма
старается… Она прикладывает максимум
малограмотных усилий, чтобы убить в
осужденном остатки его человеческой
сущности. Лавинообразный рост преступности
окончательно заглушает даже робкие
призывы к милосердию и гуманности в
отношении преступников. Окончательно
предается забвению вековая мудрость:
воссоздать в человеке человеческое
можно только человеческими способами.
Звериное же воздействие формирует в
человеке зверя. Нравственно лишь то
наказание, которое направлено на
предотвращение совершения преступником
новых преступлений (и с этой целью он
ограничивается в свободе) и создает
условия для исправления виновного.
Ограничение в свободе — это не мера
исправления. Это время отставки
преступника от его возможной преступной
деятельности, в течение которого должны
быть изысканы средства, созданы условия
для его исправления. (Поскольку преступника
нельзя исправить его смертью, то и
смертную казнь нельзя рассматривать
как наказание.)
На вопрос: что такое исправление — словари
не дают ответа. На наш взгляд, исправить
преступника — это значит видоизменить
те его психические качества, которые
детерминировали его преступное поведение.
И эта сложнейшая задача требует
высококвалифицированного, психологически
компетентного решения. В основе
исправления провинившейся личности
лежит искупление — самоснятие вины
преступником посредством ее признания,
чистосердечного самоосуждения, раскаяния,
понесения, принятого им наказания и
совершением реабилитирующих его
социально положительных деяний,
вызывающих прощение виновного. Искупление
— психологическое условие возвращения
человека к людям. Предпосылкой искупления
являются раскаяние и покаяние. (Отбывание
же срока тюремного заключения само по
себе отнюдь не является искуплением
вины и не все «отсидевшие» становятся
людьми с чистой совестью.)
Раскаяние — искреннее самоосуждение,
провинившимся своей вины, своей
причастности к содеянному злу, готовность
(и даже желание) нести наказание, глубокое
самопорицание личностью своего
антисоциального поведения. Чистосердечное
раскаяние, — а не чистосердечного
раскаяния не бывает — обстоятельство,
смягчающее уголовную ответственность
за совершенное преступление. Раскаяние
— психический акт самооценки индивидом
своего поведения, основа его исправления
в будущем, проявление совести и стыда.
Целевые задачи перевоспитания состоят
в формировании:
Ш способности осуществлять нравственный
самоконтроль;
Ш самоопределять свои социальные
обязанности.
Прежде чем что-то исправлять, необходимо
знать, что нарушено. Без квалифицированной
психодиагностики невозможно никакое
исправление личности. Да и требуется
ли ее исправление? Ряд базовых психических
качеств личности преступника следует
не исправлять, а заново формировать.
Исправить провинившуюся личность — это
значит осуществить ее ценностную
переориентацию, включить в сферу ее
стыда и совести нарушаемую до этого
социальную ценность. Задача, как видим,
не из легких и не под силу только
внутренним войскам.
Пенитенциарная парадигма (основоположение)
состоит в исправлении преступника путем
побуждения его к самоанализу и
самоосуждению, к наложению им наказания
на самого себя с последующим катарсисом
(очищением). Личность может самоизменяться
только изнутри. Внешние же побуждения
— лишь повод, условие для принятия ею
своих решений.
Преступность нельзя искоренить лишь
массовыми облавами и захватами. Но ее
можно значительно уменьшить изменением
условий ее порождающих, и изменением
всей структуры и методики работы
исправительных учреждений.
Одна и та же кара влияет на человека тем
сильнее, чем более совпадает требуемое
ею поведение с поведением, диктуемым
совестью данного человека. Так, кара
имеет большое влияние, которая данному
индивиду представляется более страшной.
Невозможно поэтому осуществить
классификацию кар по степени их
жестокости.
Самая действенная кара — глубокое
самоосуждение, раскаяние. Но основной
особенностью устойчивого преступника
является устойчивый иммунитет против
самоосуждения, наличие у него стойкого
смыслового барьера в отражении
антисоциальной сущности преступления,
установки на самоснятие ответственности.
В ряде случаев срабатывает механизм
вытеснения — преступник уходит от анализа
психотравмирующих обстоятельств,
переключается на приемлемую для него
связь событий. Подавляющее большинство
осужденных оценивает назначенное им
наказание как чрезмерно суровое,
несправедливое. Кровавые убийцы,
насильники, грабители не проявляют
обычно и тени нравственного самоупрека
единственный их самоукор: обвинение
себя за то, что «попался». Барьер
нравственного самоанализа преступника
— это основной барьер на пути его
ресоциализации. Практике же ИТУ понятия
личной перестройки, а тем более понятие
покаяния малознакомо.
Покаяние, понимаемое как обретение
личностью обновленного нравственного
качества, — основная сверхзадача
исправительно-воспитательной деятельности.
Для побуждения личности к осмыслению
ею истоков своего поведения, к
переосмыслению своей жизненной стратегии
необходим тонкий психологический
инструментарий, «хирург души» высшей
квалификации. Понесение кары — это всегда
испытание виновным страдания от внешних
ограничений и внутренней, духовной
недостаточности. Кара — это несение
заслуженного страдания. Однако, если
это страдание причиняется лишь внешними
притеснениями и ограничениями, дефицитом
потребляемых благ, если при этом предается
забвению состояние души виновного, то
преступник легко перекладывает
ответственность за эти страдания на
тех, кто их причиняет. Закоренелый
преступник — это многократно судившийся
за тяжкие преступления преступник, не
испытавший никогда раскаяния по поводу
своих злодеяний, утративший способность
к адекватной моральной самооценке,
индивид с атрофированным нравственным
самосознанием.
Кризис нравственного самоанализа — это
не только индивидуальный порок. Эта
психическая деформированность личности
имеет широкую социальную базу. Прошедшие
десятилетия нашей истории были
малочувствительны к душевным проблемам
личности, нравственные категории были
переведены в разряд второстепенных по
сравнению с «политической грамотностью»,
т.е. способностью прикрыть душевную
наготу текущей партийной директивой.
Проблемы психической организации
личности мало волновали тех, кто создавал
моральный кодекс строителя коммунизма.
Тюремная система внешне была отлажена
очень хорошо. Пенитенциарной же системы
не было вовсе. Само понятие пенитенциарности
возникло в США как противопоставление
внутреннего внешнему, пенитенциарность
— это исправление преступника через его
раскаяние. Другого пути подлинного
исправления не существует. Между тем
деятельность ИТУ связана с нивелированием
в этой системе всего личностного, всех
индивидуальных проявлений человека.
Стратегическая задача ИТУ — оторвать
преступника от условий его криминализации,
разрушить его преступные связи и
установки. Однако эта задача оказывается
менее всего разрешаемой в местах лишения
свободы. Развращающее влияние
криминализированной среды здесь не
только не преодолевается, но получает
некоторые дополнительные стимулы:
скученность, бесконтрольность досуга,
ничем не искорени-мое господство
преступной идеологии, принуждение среды
к асоциальному поведению, подчинению
«закону». Тюремные обычаи и традиции в
большинстве случаев превалируют над
требованиями администрации. Тюрьма
(читатель понимает, что под этим
собирательным понятием мы подразумеваем
все места лишения свободы, в том числе
и те, которые фарисейски называются
лагерями) переполнена теми униженными
«опущенными», которые наказаны так
неизмеримо жестоко, что худшей кары
вообразить невозможно.
Эта иерархия тюремного сообщества,
конечно, известна администрации. Нередко
она используется для «эффективности»
управления. Отсюда нежелание администрации
к дифференцированному содержанию
заключенных, приверженность ее к
«барачному» способу управления. О
трудовой мотивации, как и над другими
тонкостями человеческой психики,
администрация в большинстве случаев
просто не задумывается. Работа делает
человека хорошим — таков простой принцип
всей деятельности нашей пенитенциарной
системы. Воспитателей в тюрьме мало, а
их познания в тонкостях воспитания или
ничтожны, или антинаучны и архаичны.
Назначая наказание, суд не интересуется
тем, где и как оно будет исполняться.
Между тем лишение свободы в наших
условиях стало лишением человека
последней возможности его ресоциализации.
Ни для кого не секрет, что наша тюрьма
стала «академией» преступности.
«Большинство сотрудников колоний и
тюрем… попросту не знают, что такое
перевоспитание, в чем оно заключается
и как его осуществлять… По существу,
осужденных помещают за колючую проволоку,
и только…» Как отмечают исследователи,
сотрудники ИТУ почти не располагают
информацией о личности осужденных. Они
просто не обучены получать и анализировать
эту информацию. Более того, они чуждаются
доверительных отношений с осужденным.
Сокровенные стороны его души, интимных
переживаний им не ведомы, а стало быть,
им не ведом и принцип пенитенциарности.
По сей день идет невидимая война между
администрацией ИТУ и осужденными.
«Согнуть их в баранку» — вот главное
устремление большинства начальников.
Но фронт обороны у «противника» тоже
хорошо отлажен — там полный порядок и
строжайшая дисциплина, правда, дисциплина
своя, а не общесоциальная. В этой
«фронтовой» обстановке нравственные
проблемы не только не решаются, они даже
не возникают. «…Тема совершенного
преступления, личной вины, ответственности
весьма непопулярны в следственных
изоляторах, тюрьмах и колониях. Ее редко
касаются даже представители администрации,
и не в последнюю очередь в связи с тем,
что обычно не могут сказать ничего
существенного по поводу причин преступного
поведения, соотношения виновности и
наказания, перспектив дальнейшей
жизни… Представители администрации
совершенно не подготовлены к тому, чтобы
проникнуть в душу осужденных, в ее
сокровенные глубины и интимные
переживания, вызвать исповедь и покаяние,
а тем самым и очищение. В таких «боевых»
условиях, которые имеют место в большинстве
ИТУ, никто не намерен заниматься
«самокопательством». Наоборот — личность
стремится быть цельной, уравновешенной
и боеспособной. А что касается душевных
драм и трагедий прошлой жизни — их лучше
вытеснить, самооправдать и забыть. Так
закрепляются, консервируются все
личностно-психологические структуры,
характерные для личности преступника.
Идет отбывание срока, идет процесс
приобщения к тюремной субкультуре, но
никак не идет процесс ресоциализации
личности преступника. Более того,
личность в большинстве случаев еще
больше криминализируется. В этом и
состоит основной парадокс тюрьмы.
И для того чтобы современные ИТУ стали
учреждениями ресоциализации осужденных,
они сами должны быть ресоциализированы.
Необходима принципиальная их реорганизация,
переподчинение их более гуманитарно
компетентным органам, насыщение их
психолого-педагогически грамотным
персоналом. Не исключен здесь ритуал и
церковного покаяния (равно как и
аналогичные ритуалы других конфессий).
В качестве общих направлений
ресоциализирующей деятельности ИТУ
можно указать следующие:
Ш психологическая диагностика личностных
особенностей каждого осужденного,
выявление конкретных дефектов ее общей
социализации, правовой социализации,
а также дефектов ее психической
саморегуляции;
Ш разработка долгосрочной программы
индивидуально-личностной
психолого-педагогической коррекции,
поэтапной ее реализации;
Ш осуществление необходимых мер
психотерапии, релаксации, нивелирование
личностных акцентуаций, психопатических
проявлений, снятие всевозможных
психологических барьеров, проявлений
психологической защиты;
Ш разработка и внедрение новых принципов
режима, его коренная гуманитаризация;
Ш всемерное восстановление нарушенных
социальных связей личности, мобилизация
ее психической активности, формирование
социально положи тельной сферы ее
текущего и перспективного целеполагания
на основе социально положительных
ценностных ориентации.
71.
Личность бывшего осужденного и основные
проблемы ее социальной адаптации
Проблема социальной адаптации
(приспособления) освобожденного к
условиям нормального существования в
нормальной социальной среде на свободе
тесно связана с проблемой борьбы с
рецидивной преступностью. Большое
значение для решения этих обеих социальных
проблем имеет изучение личности
осужденного к моменту его освобождения
из исправительно-трудового учреждения.
Главным видом готовой продукции
исправительно-трудовых учреждений, как
отмечает В. Л. Васильев в своем учебнике
«Юридическая психология», является
социально-значимый человеческий
материал, который должен представлять
собой освобожденный из заключения. К
сожалению, еще нередки случаи, когда
лица, вышедшие из исправительно-трудовых
учреждений, вновь совершают преступления.
В этой связи встает проблема доказательства
исправления человека, которая не менее
актуальна, чем проблема доказательства
виновности Васильев В. Л. Юридическая
психология. Учебник для вузов. — М.:
«Юнис», 1997 г., С. 452..
Всех лиц, освобождающихся из мест
заключения, можно разделить на три
категории.
1. Лица, вполне исправившиеся в период
отбытия наказания. После освобождения
они стремятся активно включиться в
честную трудовую жизнь. Иногда это
стремление способно преодолеть
значительные трудности, с которыми
освобожденный сталкивается в период
адаптации.
2. Лица с дефектами воспитания. Эти
дефекты у освобожденных могут быть в
мировоззрении, в правосознании, в
моральных и нравственных программах,
а также в области трудовых навыков.
Положительный прогноз поведения лиц
этой категории после освобождения в
значительной степени зависит от условий
окружающей среды, в которую они попадут.
3. Лица, не исправившиеся в процессе
отбытия наказания. В процессе пребывания
в местах лишения свободы по ряду причин
они не избавились от своих преступных
взглядов, наклонностей, установок, а
порой даже преступного мировоззрения.
Что еще хуже, в иных случаях эти лица в
местах лишения свободы обогатили свой
преступный опыт, развили преступные
навыки и преступное мировоззрение.
Освобождение этого лица рассматривают
как возможность продолжения преступной
деятельности.
Социальная адаптация зависит от степени
социальной отчужденности личности,
характера преступной деятельности, ее
продолжительности, состояния микросреды,
в которую он входит. Труднее всего
адаптироваться лицам, совершившим
насильственные преступления, а также
грабителям, ворам; легче — расхитителям,
спекулянтам.
Показателями интенсивности рецидива
преступлений признаются его интервалы,
то есть отрезки времени, прошедшие после
освобождения лица от отбывания наказания
в виде лишения свободы до совершения
нового преступления.
Основная масса новых преступлений,
совершаемых лицами, которые отбывали
наказание в виде лишения свободы,
приходится на период до 3 лет с момента
освобождения.
Таким образом, процесс адаптации
освобожденных из учреждений исполнения
наказаний завершается обычно к трем
годам, а преобладающей их части — к одному
году. В противном случае высокая
эффективность профилактики рецидивной
преступности среди освобожденных от
наказания обеспечена не будет. Если
освобожденные из мест лишения свободы
не устраиваются на работу или после
трудоустройства оставляют ее, не имеют
постоянного места жительства или
систематически меняют его, нарушают
общественный порядок и правила общежития,
это свидетельствует о том, что процесс
социальной адаптации протекает
неудовлетворительно и есть реальная
почва для рецидива.
Примерно в 60% случаев наблюдается
успешная социальная адаптация, то есть
констатируются совпадение (гармония)
ожиданий-требований социальной среды
и уровня притязаний конкретного лица,
наличие устойчивых положительных
связей. В процессе успешной социальной
адаптации вырабатываются такие личностные
качества, которые позволяют человеку
стать активным субъектом деятельности
Васильев В. Л. Юридическая психология.
Учебник для вузов. — М.: «Юнис», 1997 г., С.
456..
Процесс адаптации, приспособления к
условиям нормального существования в
нормальной социальной среде после
длительного срока лишения свободы —
сложное явление, требующее активных
волевых усилий, высоких нравственных
и моральных качеств, хорошо развитого
правосознания. Человек должен в короткий
срок восстановить или приобрести целый
ряд навыков. Он должен уметь тратить
заработанные деньги, обеспечивать себя
одеждой, питанием, жильем, активно
перемещаться в пределах иногда довольно
значительных расстояний и т. д.
К объективным факторам относится то,
что к моменту освобождения из мест
лишения свободы человек утрачивает
определенные социальные связи: семью,
трудовой коллектив, жилую площадь,
квалификацию и т. д. Процесс его возвращения
в сферу нормальных общественных отношений
возможен лишь через трудовую деятельность
в коллективе. Вместе с тем, переход
предприятий на хозяйственный расчет,
принципы самостоятельности,
самофинансирования и самоокупаемости,
ведущие к снижению числа занятых в
основном производстве, ставят под угрозу
вопрос своевременного устройства на
работу по желаемой специальности лица,
отбывшего наказание. Этот момент нельзя
не учитывать, так как невозможность
удовлетворять свои, даже самые простые
потребности трудом неминуемо толкнет
ранее судимого на путь совершения
преступления повторно. Анализируя эту
проблему нужно подчеркнуть, что в
определенной степени общество само
способствует рецидиву, не обеспечивая
гарантированного трудоустройства,
продолжая ограничивать прописку лицам,
освободившимся из мест заключения.
К специальным факторам рецидивной
преступности относится распространенность
пьянства и алкоголизма среди лиц, ранее
судимых, а также недостатки в деятельности
правоохранительных органов, направленной
на предупреждение рецидива.
Хотя около половины респондентов
воспринимают их спокойно, преобладает
позиция ярко выраженного неприятия как
потенциальных преступников, настороженного
отношения к ним. Многие из них видят
реальную социальную опасность отбывших
уголовное наказание. Отчетливее всех
придерживаются такой точки зрения
работники правоохранительных органов,
руководители, служащие, горожане, то
есть те, от кого чаще, чем от остальных
зависит судьба этих людей. Возможность
установления с ними родственных связей
проблема только для десятой части
опрошенных, остальная же масса пытается
свести всякие контакты до минимума.
Утверждение морально нравственных
ценностей в сознании бывших заключенных
— неотъемлемая составная их социальной
адаптации. Совершивший преступление и
понесший за это кару человек сразу по
освобождении оказывается в трудных
социальных условиях. В первое же после
«отсидки» время он, и без того униженный
и оскорбленный самим наказанием,
неизменно вынужден считаться с положением
гонимого и отверженного.
Сложность их взаимоотношений с окружающим
миром, отчужденность иллюстрируются и
тем фактом, что преобладающее большинство
или не очень обращают внимание на
общественное мнение о себе или вовсе
выражают полнейшее безразличие. А это
не что иное, как потеря доверия к обществу,
его гуманности, объективности, неприятие
его установок. Итог закономерен — механизм
воздействия на процесс адаптации
становится трудноуправляем.
Молодым людям, склонным к совершению
преступлений свойственен разрыв между
теми нравственными ценностями, которые
они вроде бы признают, и теми, которым
фактически следуют. Показатель возможности
рецидива — отношение к требованиям
закона — лишь небольшая часть респондентов
считают их выполнение необходимым;
большинство же готовы им следовать до
тех пор, пока не затрагиваются собственные
интересы. Оттого то, вряд ли можно считать
основную массу выходцев из
уголовно-исполнительных учреждений
законопослушными гражданами. Готовность
преступить закон — прямой путь к рецидиву.
Татидинова Т. Г. Социальная адаптация
бывших заключенных. Социологические
исследования, — М: «Прайт», 1993 г. № 12, с
345
1.История вопроса.
Вопрос о том, какие именно меры легче и скорее ведут к исправлению преступников, какие физические и нравственные меры более целесообразны для возмездия за совершенные преступления и проступки, очень много лет занимает умы отечественных и зарубежных исследователей.
Когда образовалось Общество Попечительное о тюрьмах, то одной из главных задач Общества было нравственное исправление заключенных. (Свод Зак. т.XIV, Устав о содержащихся под стражей, изд. 1890г.):
“ст.226. Исправление нравственности есть один из главных предметов попечительства и занятий тюремных комитетов и отделений.
Циркуляром 9 марта 1873г. N41 указано, что содержащимся в тюрьмах разрешается иметь при себе, а ссыльным и пересыльным брать с собою в дорогу Евангелие и другие книги духовно-нравственного содержания, как составляющие их собственность, так и пожертвованные человеколюбивыми обществами и частными благотворителями.
Циркуляром от 8 августа 1891г. N11, в виду замеченного крайне небрежного обращения арестантов, особенно в пути, с выдаваемыми им каждому лично книгами Свящ. Писания, указано на желательность принята следующей меры: получаемые, или приобретаемые арестантами книги Нового Завета, молитвенники и т.п., должны вноситься в список принадлежащего им имущества и в случае утери, выданные им книги должны быть приобретаемы на их собственный счет.
ст.228. Арестанты должны во время постов говеть. По назначении для сего времени местным начальством, там, где не устроено при тюрьмах особых церквей, священники (определенные для увещания преступников о показании истины) обязаны три дня входить к заключенным в места содержания и отправлять в них вечерни, утрени и часы, с благоговением и потом исповедовать их со увещанием о раскаянии и добровольном пред судом признании в преступлениях.
ст.230. Проповедники Евангелическо-Лютеранские обязаны, по требованию начальства, посещать заключенных их исповедания. Проповедник не может
отказаться от посещения заключенного и приобщения Св.Таин, если он просит о сем; для сего лишь нужно дозволение начальств, в ведомстве которого состоит заключенный. По получении дозволения, проповедник и без приглашения обязан посетить заключенных Евангелическо-Лютеранского исповедания, наставляя их и утешая словами Св.Писания.
В инструкции смотрителю Тюремного Замка содержатся следующие постановления, относительно молитвословия арестантов неправославного исповедания.
1) Иностранных исповеданий Христиане могут совершать молитву особо в одной из свободных комнат.
2) Для исполнения обязанностей Христианами иностранных исповеданий приглашается их священник.
3) Евреи, Магометане и других нехристианских исповеданий люди могут для молитвы, во время богослужений в Церкви, оставаться в камерах.
ст.229. Начальству исправительного арестантского отделения вменяется в обязанность стараться о нравственном исправления арестантов. Надзор за исправлением арестантами священных обязанностей веры, постоянное внимание за поведением их и возбуждение в них надежды, что наказание, к коему они приговорены, будет постепенно облегчаемо по мере нравственного их исправления, суть главнейшие к тому средства.
ст.305. Для успеха в исполнении своих обязанностей по надзору за введением и сохранением благонравия в исправительном арестантском отделении, Попечительство обращается к местной духовной власти о назначении Священника, в качестве духовного отца и наставника исправительного отделения.
ст.306. Утренняя и вечерняя молитва должна быть читаем ежедневно пред всем собранием арестантов. К сему чтению назначаются грамотные арестанты, удостаиваемые сего отличия отцом духовным.
ст.308. Во время Великого Поста арестанты Православного исповедания должны говеть. Арестанты других Христианских исповеданий так же приготовляются к Св. Причастию каждый по правилам своей религии.
ст.309. Во все праздничные дни, в назначенное для того время, арестанты должны слушать поучения духовного отца исправительного арестантского отделения, или же чтения назначенных из мест Свящ. Писания или других
назидательных книг, с наблюдением того же порядка, который определен выше сего, в статье 306, для чтения утренней и вечерней молитвы.
ст.311. Для возбуждения и поддержания в арестантах стремления к исправлению, им от времени до времени читается наставление о обязанностях Христианина и подданного, о степенях наказаний и о постепенном облегчении участи раскаявшегося в своей вине преступника, указывая, когда нужно, на статьи законов, коими определяются сии облегчения для арестантов, отличающихся хорошим поведением.
Особых постановлений в отношении духовно-нравственного исправления арестантов в пересыльных и каторжных тюрьмах в законе не имеется. В отношении этих мест заключения применялись правила тюрем общего устройства.
По отношению к каторжным, содержится лишь правило, изложенное в ст.298 Уст. 1890г., определяющее, что в избранное… время, каторжные могут быть в соразмерных числу их отделениях, в течение трех дней, по утрам, освобождаемые от работ для приготовления к исповеди и к приобщению Св.Таин. О бытии каторжных у исповеди и Св. Причастия Священник доносит кому следует. Для доставления каторжным не Православного, а другого Христианского исповедания средств к исполнению сего долга, заведующие ими управления принимают возможные по местным обстоятельствам меры.”[1]
Один из исследователей тюремного вопроса — Ядринцев Н.М. говорит по поводу нравственного исправления заключенных следующее: “Наблюдения и опыты уже доказали, что самые жестокие, самые испорченные преступники могут преобразовываться и улучшаться по мере доставления им более нормальных условий жизни, по мере воспитания в них лучших привычек, по мере умственного и нравственного их развития. Главнейшей целью пенитенциарной науки и всех систем исправления является изыскание тех средств, которые могли бы лучше влиять на перевоспитание преступника и исправить в нем те недостатки, пороки и наклонности, которые были привиты к нему дурной обстановкой.
При этом в основу всякой системы исправления само собою должно лечь основательное изучение личности, чтобы лучше узнать те недостатки характера которыми она страдает, и те хорошие ея природы, которые при развитии и
воспитании человека должны составить противовес его порочным наклонностям и дурным инстинктам. Исследования характеров заключенных поэтому должно играть главную роль во всякой исправительной системе: без этого невозможно никакое исправление, никакое нравственное влияние.”[2]
В этом смысле интересен опыт европейской системы нравственного
исправления заключенных, который также рассматривает Н.М. Ядринцев: “Вся исправительная европейская система сводится к следующим правилам: 1) она признает в преступнике вполне человека со всеми его натуральными способностями, а поэтому предписывает вполне и человеческое с ним обхождение, требующее тем более гуманной осторожности, что это — человек больной и раздраженный; 2) измеряя преступника обыкновенною человеческою меркою, она силится создать нормальную жизнь в тюрьме на более рациональных началах, устраняя все вредное, все неестественное для человеческой природы и доставляя более средств для развития лучших человеческих способностей; 3) она стремится к развитию его нормальных способностей и возбуждению лучших инстинктов обыкновенными педагогическими средствами, причем не теряя надежды на исправление каждой личности. «Опыт и свойство тюремных чиновников доказали в Европе, что ни в одном преступнике не следует предполагать неспособности к исправлению.» Даже приговоренные к казни и обреченные на вечное заключение исправляются. ( Миттермайер. Смертная Казнь. стр.88,98-100)… Надо заметить — продолжает Ядринцев, — что европейская тюрьма относится к личности с величайшей заботливостью, с величайшей щекотливостью и, принимая человека в свои недра, почти забывает о его преступлении и ничем не напоминает о его преступность в обхождении с ним: она смотрит на него, как на больного, требующего величайших забот, величайшего терпения и хладнокровия. Служитель исправительной тюрьмы — медик, священник, должен быть всегда спокоен; исполнен своих высоких обязанностей, он не должен поддаваться ни на минуту личному чувству и быть на все готовым, даже на самопожертвование, — такой взгляд на отношение к преступнику устанавливает пенитенциарная наука…
Исправительная система должна возможно лучше разузнать личность, воспользоваться всеми оттенками ея характера для приобретения ея доверия. Такое
доверие, такое сближение с человеком, конечно не может быть достигнуто ни приказанием, ни грубостью: оно может быть достигнуто только крайне деликатным обхождением, знанием человеческого сердца, и, главное, верою в лучшие наклонности человек. Не отчаивайтесь в людях, не показывайте им вида, что считаете их совершенно испорченными… Покажите, что вы их лучше считаете, чем они есть; покажите веру в их исправление, затроньте в человеке благородные мотивы: они есть в душе самых испорченных; и поверьте, что вы лучше добьетесь цели. Таковы правила, на которых должно держаться исправление.»[3]
Великий знаток человеческой души Ф.М. Достоевский говорит в «Записках из Мертвого Дома»: «Всякий, кто бы он ни был и как бы он ни был унижен, хотя и инстинктивно, хотя и бессознательно, а все таки требует уважения к своему человеческому достоинству. Арестант сам знает, что он арестант, отверженец, и знает свое место пред начальником, но никакими клеймами, никакими кандалами вы не заставите забыть его, что он человек. А так как он действительно человек, то следственно надо с ним и обращаться по-человечески. Боже мой! Да человеческое обращение может очеловечить да же такого, на котором давно уже потускнел образ Божий… Я видел какое действие производило человеколюбивое обращение на этих униженных: несколько ласковых слов — и арестанты воскресали нравственно.»[4]
Говоря о духовно-нравственном исправлении заключенных, можно перечислить следующие меры воздействия: Церковь, преподающая заключенным таинства, богослужения, силу веры; образование заключенных — школы, библиотеки; беседы.
2. Исправление нравственности заключенных.
Если рассматривать вопрос о благотворном влиянии на заключенных, то исправление их нравственности — это одна из главных задач, так как если ограничиться только лишением их свободы, всевозможными наказаниями и привлечением к труду, то заключенные замыкаются в себе, превращаясь в
подобие автоматов и после освобождения, соприкасаясь с действительностью, неминуемо возвращаются на путь преступлений.
Учитывая, что особенно впервые в тюрьму попадают не всегда окончательно испорченные в нравственном отношении люди, можно определенно утверждать, что тюрьма действует на них самым дурным образом: “Опытом дознано, что в острогах в самое короткое время теряется и порядочная нравственность. Вместе с тем, тюремным начальникам неизвестна степень внутреннего развращения каждого, по крайней мере не вдруг они могут узнать это. Поэтому предотвратить распространение в замках взаимного развращения весьма трудно.
Затем, здесь вообще стараются убить в новичке его волю, подчинить его особым обрядам и правилам тюремной жизни. И тот, кто поступает сюда прямо от семьи, которая смягчала его нежною своею привязанностью ,- от общества, которое действовало на него также более мягко и терпеливо, от деревенского труда или городского ремесла, которые составляли для него заботу и жизнь, но которые в тюрьме сменяются бездействием, — эти подсудимые на первых порах просто “не свои”. И вот они в скором времени начинают прилаживаться к общему острожному характеру; и за — тем развращаются столько же как и учителя их. Как совершается с ними такая жалкая перемена, вполне понять это трудно, — это тайна тюрем.!”[5] Таким образом теряется одна из важнейших целей наказания преступников — исправление преступника, которое возможно только вследствие внутреннего перерождения человека, под воздействием религиозно-нравственных норм и покаяния самого преступника. Понятно, что не раскаивающийся в своих злодеяниях преступник очень далек от нравственного исправления, т.к. именно чувство раскаяния, угрызения совести имеет важнейшее значение в духовно-нравственной жизни любого человека, и осужденного в том числе. К тому же для верующего человека и случайное тюремное заключение — Промысл Божий, наказание за грехи, призыв к покаянию. Для неверующего заключенного, тюрьма — в любом случае только наказание за совершенное преступление, причем в большинстве случаев наказание несправедливое.
Опыт исправления нравственности заключенных под влиянием Церкви неоспорим, но за десятилетия отсутствия служения Церкви в тюрьмах, перед воспита
тельским составом сотрудников колоний и тюрем была поставлена задача исправления и воспитания преступников без Бога. Хотя в последние годы и сотрудники тюрем признают положительную роль религии в нравственном исправлении заключенных:
“Следует отметить, что многие теоретики видели в наказании меру воспитания, применяемую с тем, чтобы сделать из преступника добропорядочного члена общества. Это конечная цель, приводившаяся как единственное оправдание
всякого наказания, понималась в двух смыслах: 1) религиозно-нравственное перерождение наказываемого; 2) юридическое исправление, социальное его перевоспитание.
Один из важных принципов системы карательно-воспитательного воздействия — принцип необходимости и возможности исправления осужденных (принцип исправимости)… Неисправившиеся осужденные есть, но это может свидетельствовать не об отрицании самого принципа, а лишь о несовершенстве методов и приемов психолого-педагогического воздействия и перевоспитания осужденных. Между тем, нет и уверенности в том, что можно исправить каждого преступника без исключения (как и вылечить каждого больного), во всяком случае современная пенитенциарная наука еще не предоставляет такой возможности. Скажем прямо, принцип исправимости не получил единодушного признания ни в теории ни на практике. Если же можно допустить только, что некоторые из преступников неисправимы, то никто не имеет возможности и права сказать заранее с уверенностью, принадлежит ли данный преступник к этим некоторым, а потому должно ставить всех в условиях наиболее благоприятные для возможного исправления.
В исправительно-трудовой педагогике принцип исправимости реализуется через оптимистический подход к личности осужденного, через веру воспитателя в возможность его исправления. Это ориентирует пенитенциарных работников на проведение целенаправленной работы с каждым осужденным, независимо от совершенного им преступления. Разумеется, при этом надо принимать во внимание, что одни осужденные могут сравнительно легко исправиться, другие лишь после долгой и кропотливой работы, а третьи — вообще нет.”[6]
Говоря о принципе исправимости заключенных, специалисты по педагогике в
исправительной системе свидетельствуют о необходимости исправления внутреннего мира преступника: “Воспитательные мероприятия могут остаться нейтральными, не восприниматься осужденными, если они не затрагивают внутреннего мира человека, не сопровождаются внутренней работой над собой, не побуждают к самовоспитанию.”[7] Поэтому кроме обычных воспитательских мероприятий, также важное значение приобретает этическое воспитание заключенных:
“Этическое воспитание осужденных тем эффективнее, чем более оно связано с их духовно-нравственным развитием. Развитие чувства прекрасного, формирование культуры чувств, создание произведений искусства — все это не может не сказаться на духовном преображении осужденного. Особое же значение это приобретает в связи с тем, что в местах лишения свободы ему противостоит имеющая свои глубокие корни и “богатые” традиции — криминальная субкультура преступного мира (блатной жаргон, татуировки, блатная музыка и т.д.).
Эстетические традиции религиозного и культового искусства с успехом могут и должны быть противопоставлены различного рода эрзацам псевдо- и антикультуры. Религиозное искусство, с одной стороны, располагает системой идей, образов и действий, способных стимулировать и воспроизводить психологическое “пространство” личности, где приостановлено всевластие бездушия и бессердечия, возможна высшая справедливость, доброта и милосердие. С другой стороны, оно обеспечивает и конформное отношение к миру как к творению Бога. Культ, насыщенный образами искусства, призван создать впечатление присутствия “неземного” мира в посюстороннем, земном.
Особенно важна эта психотерапевтическая функция религиозного искусства в условиях социальной изоляции мест лишения свободы. Осужденные могут быть как простыми потребителями этих религиозно-эстетических ценностей (иконопись, церковное пение, богослужение, красота обрядов и церемоний и т.д.), так и их создателями. В этом плане администрация может идти по пути создания реальных условий для проявления творческих начал у осужденно-верующих: помощь материалами в занятиях религиозной живописью под руководством опытного духовного пастыря; обучение основам церковного пения; приобретение религиозной литературы, иллюстрированной известными художниками и т.д.
Только таким образом духовно-нравственная чистота помыслов, добросовестное отношение к труду, понимание прекрасного и возвышенного смогут отвратить осужденного от преступного пути в этом мире и призвать к духовным высотам, достойным человеческого предназначения.”[8]
Хорошо, что с одной стороны, в последнее время, ученые специалисты исправительной педагогики в своих теориях сближаются с воззрением Церкви на
исправление преступников. С другой стороны ясно, что для священников, служащих в местах лишения свободы, равно как и в любом другом месте, для нравственного исправления человека, где бы он ни был — в тюрьме, армии, больнице или в обычной жизни, универсальное значение имеет воздействие благодати Божией. Но специальные исследования открывают дополнительные перспективы, для разрешения вопросов, связанных с пастырским служением в тюрьмах в общем и развития возможностей нравственного исправления осужденных в частности.
В целом, в отношении попечения о нравственности заключенных можно сказать, что те, кто действительно желает после освобождения обрести нормальную жизнь, получают утешение в религии, посещая церкви, беседуя с духовными наставниками. Сила веры очень часто производит благодатные действия, и многие заключенные смиряются, принося раскаяние в своих поступках, вместе с тем осознавая и справедливость назначенного им приговора. Есть примеры того, что заключенные своими руками строили и украшали церкви, другие смиренно и трудолюбиво ухаживали за болящими и страждущими братьями по несчастью, третьи духовно просвещали, поддерживали и укрепляли прочих заключенных.
Лучшим же доказательством благотворности влияния Церкви на нравственность заключенных, являются практические, жизненные примеры исправления заключенных, которые стали появляться особенно тогда, когда заключенные стали попадать в тюрьмы, имеющие церкви. Дореволюционный исследователь тюремного вопроса Хрыпов И.А., рассматривая места лишения свободы в Петербурге, пишет: «Были примеры, что арестанты в благочестивом рвении их, употребляли время заключения своего на украшение храма; другие, будучи уже отправленными в ссылку, с дальних мест своего пребывания, присылали трудовую копейку на украшение в Церкви того образа, перед которым они молились. Были многие примеры, что скрывая перед судом истину, арестованные, по увещанию отца духовного, сознавались в проступке со всею откровенностью.
Есть примеры, доказывающие улучшение нравственного состояния заключенных. В двух случаях: горестной кончины Государя Великого Князя Николая Александровича и радостного дня рождения родного его брата Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Александра Александровича, без всяких предупреждений, по собственному желанию, арестанты Тюремного Замка собрали между собою посильную трудовую копейку, и на это, при содействии Тюремных Комитетов мужского и дамского, сооружены два образа в серебряных позлащенных ризах во имя Святителя и Чудотворца Николая и Св. Благовернаго Кн. Александра Невского. Образа эти поставлены в церкви Замка на особых аналоях со свещею и перед ними ежегодно совершаются заупокойные молитвы о в Бозе почившем и благодарственные Господу Богу молебен о здравии Государя Императора и Августейшего Его Наследника.
В 1868г. арестанты срочной тюрьмы, получив сведения о постигнутых во многих губерниях бедствиям неурожая, просили Начальника тюрьмы представить, собранную ими посильную трудовую лепту для страждущих братий их, каковое желание в то же время удовлетворено, и деньги представлены в Канцелярию Ея Императорского Величества Государыни Цесаревны.
Полагаю не излишним присовокупить — продолжает Хрыпов И.А. — что к мирским стараниям о нравственности и благочестии содержащихся, присоединяется и благословение Свыше. Так в устроенной Комитетом при Тюремном Замке часовне хранится образ Спасителя во имя происхождения Честных Древ Креста, в честь коего сооружена и самая церковь. Образ этот составлял фамильное достояние одного знатного семейства, но по откровению в сновидении больной дочери, перенесен, по ходатайству матери, с разрешения высшей духовной власти, в церковь замка с подобающей честию… Эта святыня, составляя главное основание в назидании заключенным, конечно не мало споспешествует к смягчению нравов и вразумлению проходить пути жизни по заповедям завещанным Спасителем.»[9]
В настоящее время также есть отрадные примеры возвращения преступников в нормальную человеческую жизнь. Так например в колониях верующие заклю
ченные смиряются со сроком наказания, стараются вести более мирную жизнь с окружающими заключенными и администрацией, добросовестно работают, не нарушая как правил распорядка колонии, так и внутренних тюремных правил жизни. Многие из верующих заключенных вследствие общей нормализации жизни выходят из колоний по условно-досрочному освобождению. Возвращаются в семью, или создают ее; находят работу, живут нормальной жизнью, несмотря на множество лет, проведенных в заключении. Возможность же всего этого появляется именно тогда, когда происходит нравственное исправление искаженной греховной жизни
преступника.
3. Образование — школы, библиотеки, беседы.
Когда в XIX в., в тюрьмах действовало Общество Попечительное о тюрьмах, то вместе с церквами были устраиваемы также школы и библиотеки. Они существовали практически во всех местах заключения Петербурга. По мнению членов Комитета — образование заключенных было большим подспорьем в деле их перевоспитания. Исследователь тюремного вопроса Никитин В.Н., в книге «Жизнь заключенных» пишет о Санкт-Петербургском Исправительном Заведении: «Нравственное исправление арестантов закон возложил на смотрителя, его помощника, помощницу, надзирателей и надзирательниц и в особенности на священника, который наставляет, увещевает и дважды в неделю обходит всех арестованных, а выпускаемых напутствует. При заведении устроена библиотека «из небольшого собрания книг, соответствующих цели заведения, религиозно-нравственного содержания…
Малолетних мальчиков во время наших посещений было 68. Их учат Закону Божию и грамоте ежедневно 6 часов. Преподают два учителя: священник и дьякон заведения.»[10]
В Военно-исправительной тюрьме Морского ведомства: «В воскресные и табельные дни заключенные освобождаются от ремесленных работ и учений искусству: это время определено на смотры, обедню, слушание духовных поучений и воинских артикулов; кроме того, после обеда учатся чтению, письму, счислению,
причем учителями являются грамотные из заключенных, а наблюдают за ходом
обучения священник и начальники отделений — офицеры.
Тюремная библиотека состоит, как и везде, из одних духовно-нравственных изданий, да и то в очень ограниченном количестве.»[11]
И хотя образование школ и библиотек при тюрьмах несомненно играло положительную роль в воспитании заключенных, были и противоположные результаты: «Тюремный Комитет, правда, снабжает части множеством экземпляров Евангелия, молитвенников, да книги эти почти не читаются, а если арестанты берут их, то ради того преимущественно, чтобы вырывать из них листы на завертку в них табаку, в виде папирос; мало же охотников на названное чтение по нескольким причинам; во-первых, в числе арестованных многие вовсе не грамотны, во-вторых — большинство грамотных простолюдинов наизусть знают молитвы, следовательно, они из молитвенников ровно ничего не узнают нового, интересного; в третьих, истые мазурики индифферентно относятся к предметам религиозного свойства, а потому не только сами не станут читать Евангелие, — но чудодейственными рассказам о своих похождениях, да едкими подтруниваниями отвлекут от этого занятия и самого религиозного человека. (Между тем эти-то мазурики, предпочтительно перед прочими, избираются арестованными в старосты по камерам, а сделавшись некоторым образом начальственною персоною, — пользуются сильным влиянием на остальных.).»[12]
Этот дореволюционный опыт отчасти действителен и в наше время. Конечно сейчас среди заключенных очень мало религиозно образованных людей, и поэтому особенно важно возродить какие-либо православные школы и библиотеки в местах заключения. В настоящее время заключенные не могут получать систематического православного духовного образования, т.к. организация каких-либо систематических курсов или школ зависит от наличия преподавателей-катехизаторов, которых сейчас очень немного. В основном катехизаторами являются либо члены православных обществ, помогающих тюрьмам, либо бывшие заключенные, после освобождения желающие послужить Церкви и помочь священнику в проповеди православной веры другим заключенным. Что касается библиотек, то они по мере возможности образовываются при колониях и тюрьмах. Но в настоящее время ощущается очень большая нехватка православной литературы для верующих заключенных. Тогда как именно религиозное обучение помогает верующим заключенным избегать различных соблазнов, развивает ум и существенно помогает достигать нравственного исправления.
В отсутствие систематического религиозного образования в тюрьмах и достаточных библиотек, наибольшее значение приобретают беседы. Ведь беседа — простое, живое, человеческое общение — это именно то, чего иногда не хватает обычному человеку, в заключении приобретает особенную ценность и приносит особенные плоды покаяния.
Дореволюционный опыт это подтверждает: «Об улучшении нравственности заключенных Комитет прилагает всевозможные страдания. Назидательные проповеди объясняют содержащимся обязанности христианина и таинства религии, кроме того, беседы духовных лиц стремятся возбудить в них религиозные чувства и усовещания, нередко приводят к искреннему раскаянию в содеянных ими проступках, последствием чего бывает, что некоторые, упорно запираясь перед судом в их преступлениях, откровенно признаются, а другие из буйных делаются кроткими.»[13]
«В праздничные дни арестанты мастерствами не занимаются, а после обеда священник и дьякон заведения беседуют со всеми в столовых о религиозно-нравственных предметах. В помощь названным лицам в заведение часто приходят, по ходатайству попечителя, с последнего курса Духовной Академии 4 студента; тогда общество арестантов разделяется на группы, отчего им легче усвоить себе слушанное. Присутствуя на беседах, мы убедились лично, что большинство заключенных слушает с любопытством и вниманием; этому способствует преимущественно то, что священник (молодой еще человек) объясняет им значение религии совершенно простонародным слогом, подкрепляет свои доводы самыми обыкновенными, из жизни взятыми, примерами.»[14]
«Духовенство не редко затруднялось в выборе тем для бесед с окружающими. Оттого Комитет, при участии духовенства разработал утвержденные Синодом «Правила для назидания ссыльных в Сибирь, в обязанностях веры и нравственности, во время следования их к местам назначения.» Этими правилами предписывалось духовенству наставлять арестантов в правилах веры на ночлегах, дневках и остановках. Собеседования с арестантами рекомендовалось вести с должным человеколюбием и сострадательностью, дабы этим способом открывать путь назиданию. Беседовать следовало с христианской любовию, простотою, снисхождением, тщательно остерегаться говорить с ними уничижительно, оскорбительно — низко преступление, но человек достоин сострадания. Беседами указывалось располагать людей к признанию их виновности пред Богом и постановленою от Него властию, к безропотной покорности воле законного начальства и судьбам провидения Божия. Духовенство, кроме того, обязывалось утешать преступников в настоящем их положении, ободрять их тем, что если терпеливо перенесут положенную на них кару, то временным этим страданием приобретут средство к спасению в будущей жизни. Советовалось в вере и молитве указывать источник неотъемлемого утешения, подкрепления и всякой помощи Бога, Иисуса Христа, пострадавшего и умершаго за спасение грешников. По мере расположения слушателей обращать разговор в поучение, сопровождать его чтением приличных мест из Священного Писания, относящихся к исправлению жизни, соединять с наставлением общую молитву. Не внимающих не принуждать, а только убеждать, чтобы не препятствовали другим: искренностью молящихся умягчить ожесточение остальных. Поучения приспособлять к слушателям; с проповедью или богослужением совмещать молебное пение, а места Св.Писания для чтения -согласовывать с требованиями слушателей.»[15]
Так например, из отчетов духовенства (за 1872г.) стало известно: «Священник Соколов беседовал по 1,5 часа 2 раза в неделю с 56 срочными арестантами, переведенными из исправительной тюрьмы, за участие в покушении Герасимова на убийство смотрителя Михеева. Все эти люди содержались довольно долго вместе, представляли собою общество, весьма сходное во взглядах и желаниях. Это обстоятельство способствовало тому, что лектор, ознакомясь с их миросозерцанием, настойчиво действовал на них в нужном направлении. Начало бесед о.Соколова с этою группою совпало с временем воспоминания в Церкви страданий Господа Иисуса Христа. Так как в эти дни церковная служба производит наиболее сильное впечатление на молящихся, то о.Соколов помог своим слушателям сознательно
присутствовать при богослужении Страстной недели, причем внимание их было до такой степени возбуждено, что некоторые из них просили о. Соколова познакомить их с содержанием богослужения в течении целого года.
Отвечая на вопросы, он представил им сущность истории спасения, потом говорил, как эта история представляется в православном богослужении — всенощном бдении и Литургии… С этой группой о. Соколову удалось пройти всю священную историю Ветхого и Нового Завета, указав в каком месте богослужения вспоминается то или другое из главных событий священной истории. В числе помянутых людей было грамотных 5 человек, которые чтением после бесед всех книг, тоже благотворно влияли на товарищей. Наконец, один из этих грамотных, вследствие запрещения арестантам держать при себе писанные бумаги, запомнил на словах адрес магазина, где он мог бы приобрести Библию, которую и купил на заработанные им в тюрьме деньги.
О. Соколов беседовал так же периодически с заключенными за нищенство и бродяжничество. Тут беседы имели отрывочный характер, по непродолжительности срока заключения (на две — три недели). Общий нравственный тип этих людей представлял собою грустное явление: совершенно здоровые, зрелые летами, чуждые угрызения совести за свои, относительно маловажные проступки, довольные приобретением сносного пристанища, — они были совершенно беззаботны, апатичны ко всему, кроме удовлетворения требований желудка.
Второй период бесед о. Соколова состоялся с двумя новыми группами: одна из них состояла из подследственных (число колебалось от 55 до 73 человек), а другая из несовершеннолетних (от 40 до 50 человек). Он проходил с ними параллельно св. историю Ветхого Завета без отношения к богослужению, стараясь притом, чтобы каждая беседа имела законченный характер и проникнута была близкими к жизни примерами. Исторические личности служили ему материалом для более осязательных выводов: как человек должен поступать и чего избегать для своего благополучия. Взрослые подследственные распадались на две категории: одни, обладавшие силою воли — не только внимательно следили за беседами, но смело спрашивали о встреченных ими недоразумениях; за то другие, слабохарактерные — старались ( оставаться незамеченными, и когда их вызывали на откровенность, — они смиренно признавались, что голова занята одною лишь неотвязною думою о том, что им совестно спрашивать, ибо они не умеют красно говорить; наконец, стесняются товарищей).
Несовершеннолетние гораздо лучше взрослых подчинялись желанию общего участия в беседах, потому что разум их еще не окреп, они мало знакомы с жизнью, податливее на ласковое обращение, да и понимают, что проступки их караются несравнимо слабее, чем взрослых…
Священник А.Я. Эвенхов говорил о необходимости вероучения ко спасению; о Св. Писании, как источнике вероучения; о десяти заповедях. Священник Альбов — об установлении таинства причащения Иисусом Христом и образе совершения сего таинства в первые века, о литургии оглашенных, об учении о блаженствах. Священник Полисадов — о крестном знамении, его значении и употреблении в молитве, о Св. Троице, особенно о втором Лице — Иисусе Христе, изображении Св. Троицы на иконах, об иконах и молитве пред ними, о необходимости и пользе молитвы, равно слушания и чтения Слова Божия; о молитве Господней «Отче наш». Прот. Меншин — о покаянии, о средствах к возбуждению в себе чувства раскаяния, о плодах покаяния; из Нового Завета — о нагорной проповеди и учении Иисуса Христа. Священник Залеский — о значении имени христианина, о крестном знамении, как отличительном знаке христианина православного, о христианском образе жизни во всяком звании и состоянии, об извлечении душевной пользы из пребывания в заключении, о необходимости знать св. веру и житии по вере; объяснял Символ Веры, с нравственным применением к слушателям, с рассказами при этом из св. истории Ветхого и Нового Завета, особенно при объяснении 3-го члена Символа Вера о рождении Иисуса Христа до его вступления на общественное служение роду человеческому.»[16]
Особенное значение беседы духовных лиц с заключенными стали иметь после революции 1917г., когда священнослужители стали не посетителями тюрем, а опасными для советской власти врагами, содержащимся в лагерях и тюрьмах, в самых тяжелейших условиях. Тогда верующие православные христиане, страдающие за веру, являлись образцом духовной крепости и мужества для всех, окружавших их людей. Писатель Борис Ширяев так описывает одного из священников, бывших в заключении в СЛОНе — Соловецком Лагере Особого Назначения:
«От выполнения своего служения о. Никодим никогда не отказывался. Служил шепотком в уголках молебны и панихиды, исповедывал и приобщал Св.Таин с деревянной струганной лжицы. Таинство Евхаристии он совершал над водой с клюквенным соком…
Был и другой талант у о. Никодима. Большой, подлинно милостью Божьей талант. Он был замечательный рассказчик. Красочно, сочно выходили у него рассказы «из жизни» накопленные за полвека его священнослужения, но еще лучше были «священные сказки». Об этом таланте его узнали еще в дороге, на этапах, а в Соловки он прибыл уже знаменитостью, и слушать его по вечерам в Преображенский собор приходили и из других рот… «Священные сказки» были вольным пересказом Библии и Евангелия, и вряд ли когда-нибудь был другой пересказчик этих книг, подобный о. Никодиму… Ни капли казенного елея, ни буквы сухой книжной премудрости не было в тихоструйных повестях о рыбаках неведомой Галилеи и их кротком Учителе… Все было ясно и светло до последнего камешка пустыни, до малой рыбешки, вытащенной сетями из глубин Генисаретского озера.»[17]
Сейчас, когда в основной своей массе, заключенные совершенно невежественны в вопросах религии, особенно необходимы постоянные беседы с ними о вере и христианской жизни, для того, чтобы они могли понять, какое важное значение имеет для человека настоящее внутреннее возрождение. К тому же в беседе можно найти разрешения самых трудных жизненных затруднений, что особо ценно для заключенных, т.к. они особо замкнуты в себе. Начиная со времени совершения преступления, человек практически никому не доверяет. Иногда это недоверие распространяется и на священника. По существующему обычаю заключенные редко говорят о своих совершенных преступлениях, особенно представителям администрации. В отсутствии Церкви, в колониях вообще затруднительно было говорить с осужденными о раскаянии, чувстве личной вины и ответственности за совершенное преступление. Многие заключенные, видимо в силу укоренившихся жизненных привычек неверия и недоверия окружающим, не готовы к откровенным беседам со священнослужителями. Только со временем возникающая духовная взаимосвязь священника и заключенного, позволяет убрать преграду недоверия и прежде всего через таинства — покаяния и причастия принести необходимые ду
ховно-нравственные плоды покаяния и возрождения христианина.
4. Попечение об освободившихся из мест лишения свободы.
Как ни хороша была бы деятельность тюремных попечителей, она может не сделать главного — исправить заключенных в «вольной» жизни, искоренить даже саму возможность совершения новых преступлений после освобождения. Об этом говорит и исторический и современный опыт работы с заключенными: «Опасность рецидива не может быть устранена одними тюрьмами, да это совершенно понятно, если взвесить то положение, в котором оказывается недавний узник, тотчас после освобождения его.
Счастлив тот освобожденный, который имеет готовую и обеспеченную семью, или вскоре по освобождении получит возможность снискивать себе пропитание своим трудом. Но не такова участь большинства из них. Общество уже в самых выходных дверях тюрьмы встречает их с предубеждением и недоверием. А при такой встрече напрасны все усилия тюремной деятельности для перевоспитания узника, бесплотными окажутся и те усилия, которые употреблены арестантом в тюрьме для самоисправления, напрасными будет и стремление его стать на дорогу честной жизни и честного труда: пути к ним для него закрыты. Общество, отвернувшись от него, неизбежно толкает его на путь порока и новых преступлений.
В особенности тяжела участь по выходе из тюрьмы несовершеннолетних узников, для которых руководитель в первые моменты освобождения безусловно необходим.
Для того именно, чтобы ослабить это неизбежное влияние тюремных стен и обратить на пользу усилия тюремного содержания, необходима организация помощи освобожденным из мест заключения.»[18]
«Вопрос о призрении выпущенных из под стражи, неимущих людей, на первое время нахождения их на свободе, тесно связан с вопросом о рецидивистах: впавшие в преступления и отбывшие заключением установленные наказания — во всех странах света встречались согражданам с предубеждением, а оно неизбежно сопровождалось чрезвычайною для них трудностью найти скоро материально возна
граждаемое занятие, отсутствие которого очень часто приводило людей вновь в заключение. Оттого участь бывших арестантов занимала тюрьмоведов и филантропов, употреблявших свои знания, труд и денежные средства на облегчение страданий выпущенников.
Самые авторитетные теоретические и практические тюремные деятели, издавна настойчиво доказывали, что бывшие арестанты в государственных, экономических и нравственных интересах, достойны безусловного внимания, обеспечения, и что помощь этим несчастным должна иметь не формальный, а непременно частный, общественный характер.»[19]
Большой опыт по оказанию помощи бывшим заключенным был у иностранных попечительных обществ, действовавших еще с XVIII века. Так например Комитет Нравственности г. Женевы: «занявшись в 1818г. попечением о заключенных и освобожденных из под стражи, путем 16-ти летней практики убедился в необходимости разделиться на два отдела: один — внутри тюрьмы, а другой — продолжал бы на воле, в тюрьме начатое «перевоспитание освобожденных — дело веры и милосердия.
«Подобные комитеты существовали в Бельгии и Англии, Ирландии, Франции и Германии. Короче, во всех государствах существует покровительство освобожденным.»[20]
Наши предки тоже не отставали от европейцев. Их тоже беспокоило беспомощное положение неимущих, освобождаемых из тюрем. Со времени утверждения Общества Попечительного о тюрьмах, Петербургский его Комитет неоднократно помогал им одеждою, деньгами и покровительством. Все эти способы, однако не удовлетворяли Комитет. Оттого он, с одобрения Трубецкого, устроил, при городской тюрьме, особое отделение, в котором выпущенники призревались, временно, до приискания мест, занятий. Число этих людей постепенно увеличивалось, а держать их, вольных, в тюрьме представлялось затруднительным и в середине XIX в. были устроены Убежища для выпущенных из тюрем, но с бывшими заключенными возникали трудности — «Некоторые призренники не оправдывали оказавшегося им доверия; поэтому тюремный Комитет решил покровительство распространить только на людей вполне благонадежных; для достижения этой же цели он предписал смотрителям тюрем, из желающих поступить в приют, снабжать одобрительными аттестатами собственно тех, которые отличались в тюрьмах добропорядочным поведением… Причем в дисциплинарном смысле Комитет исходил из принципа: хочешь — веди себя хорошо и живи; нет — уходи куда знаешь. В силу этого основательного принципа Убежище существует и теперь.»[21]
Исследователь тюремного вопроса Галкин В.Н. также рассматривает вопрос о восстановлении общественного положения освобожденных преступников, по документам Бельгийских попечительных обществ: «Настоящий вопрос (говорится в документе) обнимает не только меры, представляющиеся при освобождении арестанта, но и те, кои следует принимать со дня заключения его так, чтобы род наказания не могли увеличить и без того уже значительные препятствия, встречаемые арестантом по выходе из тюрьмы.
Одной из главнейших причин, препятствующих восстановлению общественного положения освобожденных преступников является отсутствие попечительств над освобожденными преступниками (их слабая деятельность).»[22]
Исследовав постановку вопроса об устройстве попечительных систем в Бельгии, Галкин предусматривает следующие условия, для эффективной деятельности, некоторые из них следующие:
«1. Учреждение при каждой тюрьме комитета для нравственного исправления заключенных и для покровительства освобождаемым. Комитет этот будет тем полезнее, что споспешествуя исправительным мерам тюремного заключения, он вместе с тем может служить ручательством за освобождаемых, так как члены комитета будут знать их лично.
2. Официально заявленные комитеты при каждой тюрьме должны служить собственно для сношений с разными местами, при негласном содействии благотворительных лиц, изъявивших согласие принять участие в делах попечительства; лица же сии, будучи так сказать тайными попечителями, должны действовать помимо всякой официальности.
3. Попечительство, не стесняемое никакою ответственностью, заключается исключительно в благотворении и надзоре над действиями опекаемых; если же кто из последних выкажет прежние преступные наклонности, то попечительство предупреждает о том местное полицейское управление.
4. Одни лишь исправившиеся, дающие ручательство в добрых намерениях и особо рекомендованные тюремным управлением, могут пользоваться благосклонностью попечительств, что и будет служить надежнейшим для общества ручательством.
5. За месяц до выпуска, комитет уславливается с освобождаемым о новом месте его жительства и делает соответствующие приготовления к приисканию ему занятий или места.
6. Для облегчения обязанностей попечителей и для вернейшего
восстановления освобожденных в обществе, последние обязаны, если не встретится к тому особых препятствий, не жить в том месте, где совершили преступление или проступок.
7. Заработанные арестантами деньги передаются при выпуске попечительству и выдаются арестантам по частям по мере нужды, для избежания растраты и невоздержанности и для понуждения освобожденного оставаться в избранном и известном попечительству месте жительства.
8. Особые пособия имеют быть отпускаемы освобожденным, которые при освобождении из тюрьмы добровольно согласятся оставить отечество. Такое переселение представляет собою не только наилучшее средство к упрочнению положения освобожденного, ибо не раскаяние его, ни доброе поведение не в состоянии заглушить окончательно воспоминания о совершенной им раз вине, но в некотором отношении, служит еще доказательством сознательного исправления преступника.»[23]
В настоящее время некоторые положения, высказанные выше, находятся в Уголовно-исполнительном кодексе Р.Ф.:
«Глава 22. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними.
ст.180. 1. Не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть месяцев до истечения срока ограничения свободы или лишения свободы администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы мест
ного самоуправления и федеральную службу занятости по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособность и имеющихся специальностях.
2. С осужденным проводится воспитательная работа в целях подготовки его к освобождению, осужденному разъясняются его права и обязанности.
ст.181. 1. Осужденным, освобождаемым от ограничения свободы, ареста или лишения свободы на определенный срок, обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства, они обеспечиваются продуктами питания или деньгами на время проезда в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
2. При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее
приобретение осужденным, освобождаемые из мест лишения свободы, обеспечиваются одеждой за счет государства. Им может быть выдано единовременное денежное пособие в размере, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
3. Обеспечение продуктами питания, одеждой, выдача единовременного денежного пособия, а так же оплата проезда освобождаемых осужденных производится администрацией учреждения, исполняющего наказание.
ст.182. Осужденные, освобождаемые от ограничения свободы, ареста или лишения свободы, имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение других видов социальной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.»[24]
Как видно из постановлений закона, предусматриваются как будто все меры, для создания нормальных условий жизни бывшим заключенным. Практически же дело обстоит иначе. На сегодняшний день можно видеть массу неустроенных бывших заключенных, постоянно пополняющих ряды бомжей и безработных, праздно шатающихся по рынкам, вокзалам, прочим общественным местам в поисках пристанища, денег и пропитания. И вследствие практической невозможности государственных структур своевременно обеспечивать бывших заключенных документами, деньгами, жильем и работой, они сами обеспечивают себя, нередко вновь нарушая закон и снова попадая в тюрьмы и колонии. Хотя попытки наладить контроль и помощь лицам, вышедшим из мест лишения свободы все-таки есть. В
частности при местных органах самоуправления (Мэрии, Администрации) существуют Наблюдательные Комиссии, которые осуществляют надзор, оказывают помощь бывшим заключенным (но только по месту жительства до заключения). Эти Наблюдательные Комиссии выполняют следующую работу: постановка на учет, оказание юридической помощи, выдача талонов на льготное питание, получение одежды, обеспечение временного проживания (типа «ночлежки») направление на работу и предоставляют другие виды помощи. В православных церквах Петербурга так же постоянно появляются люди со справками об освобождении, просящих различной помощи — одежды, еды, работы, денег. Поэтому совершенно необходимо вернуться к мысли о создании таких специальных обществ или мест, где люди,
вышедшие из мест лишения свободы, могли бы первое после освобождения время привыкнуть к новому для них состоянию; дождаться оформления документов, реально подумать о новом месте жительства и работе.
Подробно эта проблема обсуждалась на международном семинаре «Диакония и Попечение в пенитенциарных учреждениях России», проходившем 9-11 апреля 1997г. в Москве. В ходе обмена опыта было выяснено, что работа по этому вопросу ведется разрозненно, усилиями отдельных людей или общественных организаций. В настоящее время ведутся только попытки созданий таких реабилитационных центров, которые занимались бы бывшими заключенными. Так например многие бывшие заключенные обращаются за помощью к тем людям, организациям, церковным приходам, монастырям, которые помогали им во время заключения.
Священник Санкт-Петербургской Епархии о. Александр Степанов также поделился своим опытом решения данного вопроса: «Я хотел бы рассказать о некоторых практических попытках реабилитации освобождающихся. Здесь встают жуткие проблемы, которые толкают человека вновь на преступный путь, унижают его достоинство и приводят к совершеннейшему распаду личности. Особенно это касается тех людей, которые в тюрьме обрели веру. Вот он обрел там веру, он увидел в церкви священнослужителя, который откликнулся на его боль, его нужду, и он идет по выходе из колонии в церковь. И вдруг находит, что там он совершенно никому не нужен. В колонии к нему приезжал священник, по два часа его исповедовал, а теперь он вышел, и священник в обычном приходе на него двух минут не может потратить. Я уже не говорю об оказании материальной помощи.
Мы понимаем, что оказать помощь всем мы не можем и стараемся ограничится тем кругом людей, которые были непосредственно в нашей общине. Но если человек живет за пределами Петербурга, то опять-таки понимаю, что ничем не могу ему помочь, кроме доброго слова и, может быть, малой суммы денег на дорогу. Но те, кто живут в Петербурге, те, кто имеют жилье, таким людям я могу оказать какую-то помощь. Чем? устроить его на работу у себя. Сейчас у меня работает пять человек. И это именно на реабилитационный период. Я не принимаю человека на постоянную работу. Конечно, когда он вышел, мы бы могли просто давать ему эти деньги из гуманитарных источников, зарубежных, главным образом. Но это будет плохо. Надо дать возможность человеку трудиться, чтобы он был занят и чтобы он эти деньги, пусть небольшие, но заработал сам.
Второе — это создание среды, которая расположена к этому человеку, которая принимает его в себя. Единственная среда, которая примет этого человека по выходе без проблем — это среда преступная, или, по крайней мере, бывшие заключенные, которые освободились. Он только с ними может находить общий язык. Это как для человека, вернувшегося с тяжелой войны, он не может общаться ни с кем, кто это не пережил и не прочувствовал. Человек же, начавший церковную и духовную жизнь в колонии, нуждается в церковной среде, в среде, к нему неравнодушной. Наше братство в некотором смысле призвано решать и эту проблему тоже. У нас создается некий социум, некое сообщество людей, живущее по иным законам, чем живет все остальное общество. И освободившийся попадает в эту среду. У нас есть трапезная, где вместе все едят: люди, вышедшие из мест заключения, сильно разбавлены и людьми свободными, не имевшими такого опыта. И поэтому чрезвычайно тяжелый момент выхода сильно смягчается. Потом человек немного осваивается, получает паспорт, оформляет прописку, делает свои первые самостоятельные шаги, постепенно находит себе работу какую-то или я ему что-то нахожу. И он плавно переходит в обычную жизнь. Такой опыт есть у нас, есть и у других священников, которые работают в тюрьмах и которые точно также принимают людей. Но не у каждого из них есть развитая среда общения, которая есть у нас. Идеальная схема, мне кажется, примерно такая.»[25]
О том, что общество ожидает от Церкви помощи в решении вопроса об оказа
нии помощи бывшим заключенным, свидетельствует в частности письмо митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру от заместителя начальника ГУВД Санкт-Петербурга и области, генерала внутр. службы Спицнаделя В.Б.:
“Постановлением правительства Санкт-Петербурга №1 от 16.01.97г. утверждена Городская социальная программа “Помощь лицам без определенного места жительства и занятий и освобожденным из мест лишения свободы”, призванная создать необходимые условия для соблюдения конституционных прав и свобод лиц без места жительства и занятий, законодательства Р.Ф., Решений правительства Р.Ф. по совершенствованию организации социальной помощи лицам без определенного места жительства и занятий, освобожденным из мест лишения свободы и предупреждению бродяжничества и попрошайничества.
Для достижения поставленной цели, предусматривается принятие комплекса мер, способствующих получению лицами без определенного места жительства и занятий медицинского обслуживания, трудоустройства, социального обеспечения и реализации других прав и свобод.
В рамках исполнения Программы предусматривается открытие сети учреждений социальной направленности: центров социальной адаптации для лиц, освобожденных из мест лишения свободы…
Однако в программе не предусмотрено создание реабилитационных центров для наиболее не защищенного слоя населения — подростков, освобождающихся из мест лишения свободы. В воспитательных колониях, где отбывают наказание несовершеннолетние осужденные, каждый тринадцатый подросток либо сирота, либо лицо, лишенное родительского попечения, каждый четвертый имеет психические отклонения.
Каждое девятое преступление в России совершается подростками либо при их соучастии. В сфере профилактического воздействия органов внутренних дел в 1996г. находилось свыше 700 тыс. подростков-правонарушителей. За истекшее пятилетие их число возросло на 23/3% и прогноз криминогенной ситуации в России в отношении несовершеннолетних неблагоприятен.
В целях совершенствования профилактической работы с подростками-правонарушителями и выполнения Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве МВД России и Русской Православной Церкви, утвержденного министром внутренних дел РФ 31 марта 1997г. и Плана совместной деятельности УИН ГУВД г.Санкт-Петербурга и Лен.обл. и Санкт-Петербургской Православной Церкви от 26.02.97г., руководство УИН ГУВД Санкт-Петербурга и Лен.области обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос об организации реабилитационных центров при церквях и монастырях для адаптации в обществе несовершеннолетних, лишенных родительского попечения, или имеющих психические отклонения, освободившихся из мест лишения свободы.
Надеемся на помощь и поддержку в этом святом и благородном деле. Воспитание подрастающего поколения наше общее дело. Каким будет наше общество, в полной мере зависит и от нас с Вами.”[26]
Вопрос об оказании помощи бывшим заключенным в приходах и монастырях Санкт-Петербурга также обсуждался на Епархиальном собрании санкт-петербургского духовенства 24 ноября 1998г. В частности, наместник Александро-Невской Лавры, благочинный монастырей и подворий СПб епархии, архимандрит Назарий сказал следующее:
Относительно монастырей вопрос поднят правильно, но он сегодня неактуален, потому что все монастыри принимают кого угодно. Сейчас на острове Коневец у нас порядка 40 — 50 человек. Из них 10-12 человек наркоманы, 20 — из тюрьмы. И наверное ни одного монастыря нет, в котором не было бы ни одного человека, прошедшего через эту страшную школу, которую там получили. Когда принимаешь таких людей, они говорят, что ходили в тюрьме в церковь, и когда их принимают в монастыри, они приходят как овечки, а когда они там поживут, обживаться, создается прообраз бандитских группировок, которые постепенно прибирают все к рукам в монастыре, и начинают править свой бал. И поэтому монастыри в том состоянии , в котором они сейчас находятся, не могут принимать большое количество бывших заключенных. 10 человек для такого монастыря как Коневский, а он не самый маленький, — это уже летальная доза для него. И через какое то время, объединившись, эти люди будут заправлять в монастыре. Конечно люди приходят сейчас туда, где есть кров и пища. Монастыри принимают таких людей, потому что вынуждены. И потому иногда монастыри превращаются в своего рода зоны. И если настоятель не крепкий, то он сам попадет под это влияние. Конечно мы и дальше будем принимать этих людей, но на сегодняшний день ни один монастырь не может взять на себя миссию принимать на реабилитацию людей, которые прошли вот эту школу тюрьмы. Потому, что 2,3,4 человека в крайнем случае можно держать в руках, но иногда принимаешь человека, потом случается кража — уже не по мелкому, а по крупному и эти люди не ожидая что их выгонят, уходят сами. И на одного обычного жителя монастыря, приходится 3-4 вот таких “необычных людей” — бывших заключенных и проч. По этому на сегодняшний день у нас в епархии ни одного монастыря нет, который бы мог заниматься напрямую этим делом специально.[27]
Действительно, при объективном рассмотрении вопроса об оказании помощи бывшим заключенным, необходимо увидеть многогранность этой проблемы.
Множество людей, вышедших из мест лишения свободы ищут помощи где только возможно, но прийдя в церковь, в основном просят денег — на дальнюю дорогу, на лекарства, на питание и одежду, и очень редко просят благословения и молитв на новую, праведную жизнь без тюрьмы.
Социологический опрос заключенных и сотрудников тюрем показал следующее:
“Несколько неожиданные данные были получены при ответе на вопрос: “Нужна ли будет Вам социальная помощь после освобождения?” Около 10% затруднились на него ответить, а вот из оставшейся части осужденных более 2/3 сказали: ”Нет, не нужна”. И лишь дополнительное изучение показало, что подавляющее большинство просто-напросто не верит в ее получение от кого бы то ни было: от государства, от предпринимателей, от разных благотворительных фондов, частных лиц и т.д. и т.п.
Однако то, что социальная помощь все-таки большинству освободившихся будет крайне необходима, стало ясно из ответов на вопрос, какую конкретно помощь и от кого Вы хотели бы получить после освобождения: “Любую (одежда, деньги)”; “Материальную помощь”; “Решение проблем с работой”; “Трудоустройство”; “Восстановление утраченного жилья”; “Наркологическую” и т.д. И лишь одна осужденная категорически заявила: “Никакую и ни от кого”. И по- своему она права, разуверившись в социальной поддержке общества. В подавляющем большинстве случаев проблема оказания постпенитенциарной помощи освободившимся не решается, а сводится лишь к общим рассуждениям да написаниям
различного рода проектов о попечительских советах.
Относительно того, какая должна быть помощь освободившимся, мнение представителей администрации фактически совпадало с пожеланиями самих осужденных: 1) трудовое и бытовое устройство; 2) создание центров реабилитации (в крайнем случае обычных ночлежек); 3) устройство в интернаты; 4) денежно-вещевая. И опять же почти никто не указал на помощь морально-психологическую (или ту же религиозную).”[28]
В целом можно сказать, что ради исполнения важнейшей задачи — окончательного исправления бывших заключенных, необходимо объединение усилий
государственных структур, общественных организаций и Церкви, для создания централизованной, продуманной структуры попечения над освободившимися из заключения.
Как писал об этом исследователь тюремного вопроса Комитета Нравственности г .Женевы Обонель, в 1837г.: «Покровительство это, есть последнее усилие милосердия, — для перевоспитания заключенных: оно действует в тот период времени, когда надежды, составленные в заключении, могут осуществиться, или разрушиться.»[29]
Но все же, никакое, даже самое лучшее попечение, не сможет изменить жизнь бывшего заключенного, без искреннего желания и усердия последнего. Церковь, государство, общество, могут только помочь оступившемуся человеку вернуться к нормальной жизни. Вот слова одного из тюремных священников XIX века — прот. Евгения Попова, сказанные освобождающимся заключенным:
“По выходе же отсюда вы встретите много и худых внушений, иногда и от высших себя в каком либо отношении. И так, с помощью Божиею, старайтесь приобрести себе крепкую волю, крепкий характер и самообладание. Бегайте соблазнов, на прим. не засматривайтесь на женские лица и наряды. Невоздержанные, положите обещание на первый раз не пить вина, хоть в продолжении трех месяцев. Кто имеет семейство, тот крепче привяжись к своей семье, держи себя более дома. А холост не отлагайте вдаль своей женитьбы. Сверх того изберите себе каждый из числа добрых людей какого либо руководителя или друга, потому что сказано: ”блази два паче единого”. (Екл. 4. 9) Полюбите труд, старайтесь быть постоянно в занятиях. Если вы — жители деревень, но доселе находились в городе для работ или услужения, то лучше возвратитесь к своим обществам, в свои деревни; потому что в городе больше для вас соблазнов к прежним проступкам; здесь больше вас — преступников общинами, между тем как из десяти виновных часто один только попадается в руки полиции, прочие успеют скрыться и, встречая своего товарища после ареста его, снова увлекают его к порочному ремеслу. Получив свободу, ходите чаще в церковь, и неотступно каждый год исполняйте долг исповеди и святаго приобщения.
После этого скорее вы не попадете сюда, — не дойдете до повторения прежних преступлений.”[30]
Действительно, не только исправление, но и спасение человека зависит в какой-то мере от него самого. Святитель Григорий Богослов учит “Надобно, чтобы спасение зависело как от нас, так и от Бога… К преуспеянию моему нужны две доли от великого Бога, именно первая и последняя, также одна доля и от меня. Бог сотворил меня восприимчивым к добру, Бог подает мне силу, а в средине — я текущий на поприще.”[31]
[1] Коковцов В.Н., Рухлов С.В. Систематический сборник узаконений и распоряжений по тюремной части. СПб 1894., с.324-328.
[2] Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб. 1872, с.323-324.
[3] Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб 1872. с.346-347,680.
[4] Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого Дома. Л. 1972, с.91.
[5] Беседы с заключенными в тюрьмах. СПб.1870г., с.78-79.
[6] Наказание и исправление преступников. М.1992., с.31,55-56.
[7] Пищелко А.В. Социально-педагогические основы нравственного перевоспитания осужденных. М. 1992, с.110.
[8] Деятельность религиозных организаций в исправительных учреждениях. М. 1996, с.53-54.
[9] Хрыпов И.А. Настоящее положение мест заключения в Санкт-Петербурге. СПб. 1869. с.27-29.
[10] Никитин В.Н. Жизнь заключенных. СПб.1871,с.22.
[11] Никитин В.Н. Жизнь заключенных. С-Пб.1871,с.174.
[12] Никитин В.Н. Жизнь заключенных. С-Пб.1871,с.190,233.
[13] Хрыпов И.А. Настоящее положение мест заключения в Санкт-Петербурге. СПб. 1869. с.11-12.
[14] Никитин В.Н. Жизнь заключенных. С-Пб. 1871, с.202.
[15] Никитин В.Н. Жизнь заключенных. СПб. 1871, с.178.
[16] Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. С-Пб. 1880, с.194-197.
[17] Ширяев Б. Неугасимая лампада. М.1991, с.259-262.
[18] Фойницкий И.Я. Учение о наказании. СПб. 1886, с.441.
[19] Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. СПб. 1880, с.403.
[20] Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. СПб. 1880, с.404.
[21] Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. СПб. 1880, с.410.
[22] Галкин М.Н. Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб. 1868, с.142.
[23] Галкин М.Н. Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб. 1868, с.142-143.
[24] Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. М.1997. с.108-109.
[25] Диакония и Попечение в пенитенциарных учреждениях России. М. 1997, с.82.
[26] Письмо митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру от Заместителя начальника ГУВД СПБ и обл. ген. внутр. сл. Спицнаделя В.Б. от 14.11.1997. №20/4646.
[27] Аудиоматериалы епархиального собрания 24 ноября 1998 г. СПб.
[28] Деятельность религиозных организаций в исправительных учреждениях. М. 1996, с.39,47.
[29] Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. СПб 1880. с.403.
[30] Беседы с заключенными в тюрьмах. СПб.1870, с. 203 — 204.
[31] Воронов Л. прот. Догматическое богословие. СПб. 1994,с36.